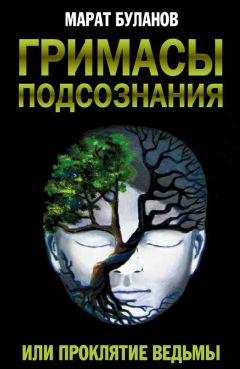— Так што–то, — ответил он, и в голове его вдруг мелькнули слова Курузы: «Знаешь, Сашка, в свой город потянуло. Кровь родная, должно, зовет».
— Куда, Саша, пойдем?
— Куда? На Трубную завернем, пожалуй. Там, знаешь, Ира, можно армяшке и чемоданное брахло спустить, да и насчет спиртишки–постоянно.
Выходя из ворот, он еще раз недоверчиво оглянулся и, махнув рукой, заговорил с Ирой:
— Страсть, как ты на Наташу похожа.
— На какую Наташу?
— Не знаешь ты ее. Добрая была и тоже красивая. Катюшку в больницу унесла и сама сгинула.
— Ты любил ее?
— Хто знает. А все ж любил. Думалось, може, привык. Только все помнится и во сне видал. Добрая была она, ласковая, лучше сестры. Да, не судьба, видно: так и не пришлось жить вместе — расстались.
— А я с тобой разве ссорюсь? Душа в душу живем, а все, видно, не такая я, как она.
— Будто и такая, а все же не то. Господская ты, а она наша, деревенская, простая.
— Когда–то была господской, да и быть интеллигентом еще не значит быть плохим. Разве ты не хотел бы быть интеллигентом?
— Я — нет.
— К тебе бы это пошло. Лицо у тебя нежное и характер добрый, хоть ты и испорченный человек.
— Нужда, значит.
— Да-а, — протянула Ира и с любопытством спросила: А что, ежели бы ты ее встретил, эту самую Наташу, обрадовался бы, а?
— Почем я знаю. Если не скурвилась, то так, а скурвилась, сразу убил бы, как Курузу.
— Сразу бы меня бросил?
— Зачем бросать? Вместе бы жить стали. Я к тебе тоже привык, да и… — Чья–то рука, вцепившаяся в воротник, остановила Сашку.
— Кто вы такой? — спросил незнакомец.
— Человек, беспризорный я, — спокойно ответил Сашка.
— А вы? — обращаясь к Ире. — Кто вы будете?
— Я тоже.
Послышался свисток и два подбежавших милиционера отвели их в отделение.
В отделении Сашка вел себя развязно.
— Как тебя звать? — допрашивал толстый обрюзглый милиционер, походивший на околоточного. — Да смотри, правду говори, а не то по статье уголовного кодекса отвечать будешь.
— Непомнящий Сашка.
— Так, а по отцу?
— Не знаю.
— Как не знаешь, мошенник!
— Не подсматривал, небось, кто отцом был.
— Та–ак. А тебя, красавица?
— Непомнящая Ирина.
— Ах вы, стервецы! Да я вас привлеку, как уклонившихся от следствия. Тарасов, сведи их в арестное. Ух, мошенница! А хороша она, так и ест глазами, как вымуштрованный солдат в старой роте.
— Я прошу вас, товарищ, без глупостей. Мне нужно получить чемодан с вещами, которые похитили они, — говорил потерпевший.
— Не волнуйтесь, вещи не пропадут, но пока их нет, — доказывал дежурный.
— Как нет? Этот голодранец со своей шмарой в моих костюмах изволит гулять.
— Что, шмара? Вы, кажется, тоже из блатных голубчик? — Бурчал милиционер и что–то непонятное строчил на бумаге.
Однако, это длилось недолго. Милиционер оказался под мухой и был посажен под арест. К вечеру Сашку с Ирой отвезли в колонию малолетних преступников.
В два часа дня Наташа была уже у Петрушковых. В доме, казалось, готовился особый обед. Все суетились, бегали и куда–то спешили. Люди, как автоматы, поставленные на одну точку, бестолково бегали и кружились. Еще по дороге к дому Еремей Власыч, слегка покрякивая и расчесывая бакенбарды ладонью, строго сказал Наташе, что он не может терпеть непослушных. И тут же, ткнув ее в бок, оглянувшись, спросил на ухо:
— И замужем не была?
— Нет, Еремей Власыч,
— Значит, еще н-не того? А годков сколько?
— Семнадцать исполнилось.
— Как раз. Гляди, и шестнадцати можно, — прищурив глаза, сказал Петрушков. Ущипнув ее за руку, он прошептал вслух: товар добрый, гляди, свежиной пахнет.
По приезде, Петрушков, на всех прикрикивая, ухаживал за нею сам. Наташа в недоумении смотрела то на него, то на окружающих и пугливо оглядывала свое новое убежище.
— За что честь такая, Еремей Власыч?
— Полно тебе сейчас–то. Опосля об ефтом поговорим. А что касается нарядов, я пришлю Василису. Надобно сменить. Сама–то, гляди, толком не умеешь, так ли? Ну, пока. Да целуй, привыкать надо.
Наташа поцеловала его в мокрые усы и хотела обтереть губы.
— Не сме–еть! Никак бы не падаль поцеловала.
Наташа большими испуганными глазами смотрела на него и слезы обиды и горечи, выскользнувшие из глаз, задержались на темных ресницах.
— Смотри у меня! — Петрушков, крепко ударив дверью, вышел. Наташа тяжело дышала, вздрагивая всем телом.
Спустя час, одетая в изящный костюм, сидела Наташа перед большим трюмо. Василиса Петрушкова хлопотливо завивала кудельки ее волос, как то бережно прикалывала их шпильками.
— Страх, как наряд этот тебе идет! Красавицей ты в нем стала.
— Стыдно мне. Простая я, крестьянка, потому господские не к лицу, — говорила Наташа, и как бы не доверяя хозяйке, оглядывала себя.
А была она прекрасна. Робкая невинность глядела из голубых ее глаз опьяняющей лаской.
— Страшно мне здесь, — говорила она хозяйке. — Боюсь чего–то и не пойму…
— Еремей Власыч к столу просит вас пожаловать, — крикнул кто–то в дверь.
Наташа вздрогнула.
— Идем, — отозвалась хозяйка.
И они пошли. За обедом шел развязный разговор. Говорили, кто что хотел. Все пили спирт и дико хохотали. Петрушков без церемоний поил Наташу.
— По–нашему, все должны пить, потому ученый и зажиточный народ без этого не может.
Кроткая, юная простота Наташи не понимала хитростей, и простота Петрушкова скоро усыпила ее бдительность.
Ранним вечером, когда еще не угас закат, когда еще на спинах каменных богатырей лежали разбросанные слабые сгустки бледневшего зарева, козырный король Петрушков плескал извращенную похоть над своей жертвой. Напрасно рвется Наташа и беспомощно бьется в руках обезумевшего зверя. Старик, как тигр, сдавил ее горло, и казалось, готов был без сожаления высосать кровь. А когда стемнело, Петрушков, усталый от упоения, уткнувшись в обнаженную грудь девушки, чмокал губами и рычал голодным псом над куском обнаженного тела. А еще позднее, когда дико ревел притон и алчные покупатели гремели золотом, он до утра продавал ее, как и других, получая по золотому. Слепая страсть потонувших в омуте извращенной похоти неудержимо катилась в пропасть. Какой–то толстый, неуклюжий торгаш изливал животную похоть на лежавшую в обмороке Наташу, а за дверьми все еще шумели голоса и истерически то плакало, то хохотало пианино.
Долго пролежал Сережка Жокин в больнице. Зима показалась ему за целую вечность, но он крепился и ждал. А ждал он весны, долго ждал и дождался. Теперь он целые дни проводил в больничном парке, часами плавал по пруду на плоту и пел. Пел простые, заунывные песни и тосковал по маленькой захирелой сестренке Кате. «Где она, бедная, живет?» — часто вслух, про себя говорил он и даже, бывало, плакал по ночам, плакал, как большой, навзрыд, как по покойнике. Иногда он убегал к решетке забора и подолгу глядел на игравших девочек и думал, думал о том, что, может быть, давно умерла его Катя, потому что тиф был у нее, как говорили на вокзале. А тиф ему знаком. Хоть сам он и не болел им, зато за дорогу много умерло на его глазах от этой злой и жестокой болезни. «Больше не могу терпеть, удирать нужно, а как? У ворот сторож, а кругом высокий забор и, главное, в чужие дворы выходит. Страшно, за мошенника сочтут», — думал он не переставая и строил детские планы.
Вечером, когда больные ужинали, Сережка выждал момент и, перебравшись через острый хребет забора, убежал. На улицах непрерывной нитью двигался народ. «Модный мир» не замечал, что среди них, ныряя, бежит маленький человек с бьющимся сердцем, как и у них, бежит, рвется к жизни. А ему казалось, что кто–то нагоняет его и кричит: «Задержи–и–и-те». Улицу за улицей, переулок за переулком большими прыжками отмерял он, задыхался, но не останавливался, стараясь живее добежать до того места, откуда его забрали в больницу. Вот и он! Восьмиэтажный дом по–прежнему глядит ярко освещенными окнами как чудовище, по–прежнему насторожился тысячью глаз, как бы выслеживая каждый шаг маленького беглеца. Сережка завернул в темный переулок, еще прибавил шагу и вдруг круто остановился. Перед ним стоял мрачный обгорелый дом и знакомые развалины. Некогда было ждать. Оглянулся по сторонам, прислушался. Было тихо. Потемневший дом хмуро смотрел на него, как большое кладбище, и молчал. Бр–рр, — протянул он от ужаса и новой мыслью успокоил себя: «А может, и ребята здесь, и Катюшка с Наташей вернулись, ждут меня». И он, согнувшись, шмыгнул под ворота и тихо вошел в развалины. Неприветливая мгла пахнула сыростью и непонятный кошмар встал перед глазами. Ноги оцепенели и не хотели идти вперед, а волосы, как поваленный ветром хлеб, чувствовалось, подымались под шапкой. Но минута, и он снова идет как хитрый вор, крадется в немую глушь, протянув свои руки, как будто собираясь сказать: «Возьми меня, я больше не буду». Под ногами, скатываясь вниз и шурша, громыхали кирпичи. Это пугливо отдавалось в пустоте и, глухо рассыпаясь, таилось вдали. Сережка опустился на колени и было пополз в угол, но в это время что–то с визгом, обдавая ветром, прыгнуло через него. И снова жуткой тишиной насторожились развалины. Сережка ткнулся лицом к земле и замер, притаив дыхание. В голове закружилось, зазвенело в ушах и тяжело заколотилось сердце в груди. Так всю ночь пролежал он на сырой земле. Повернувшись на спину, глядел ввысь и думал о сестре и о доме. А слезы неудержимым родником и влажной пеленой покрывали его глаза. И звезды ясные сливались воедино, как бы собираясь в кучу и кучами прыгали по темно–синему чистому небу. Мысли о былом и память о матери начинали душить его и он, долго всхлипывая, топил их и горечью и обидой безотрадного детства. Когда–то там, на родных полях, в копнах свежего, душистого сена, слушал он песни отца, в которых изливались горе и радость, которые были полны тоски и негодования. Казалось, все это было вчера и, однако, стало таким далеким; бывало беспредельной гладью раскинется ширь воды и голубые дали на твоих же глазах сменятся ярким заревом заката. Темно–красной полосой опояшет тебя горизонт… и потонет.