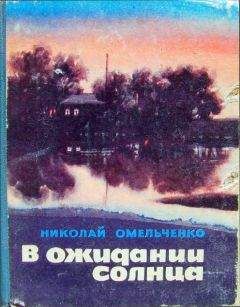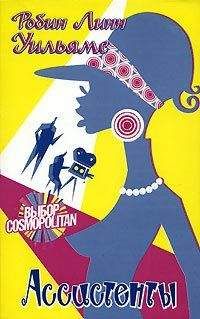— Продаешь тюльпаны? — спросил Цаля.
— Да, — кивнула та и поднялась.
Цаля протянул ей полтинник, девчушка к уже связанному букетику добавила еще несколько цветков и, улыбаясь, не вставая с корточек, подняла букет над головой.
— Спасибо, — как-то осторожно, будто они стеклянные, взяла тюльпаны Лиля.
— Как называется этот ручей? — спросил Цаля у паренька.
Не меняя позы, тот гордо ответил:
— Это не ручей, это — рэка!
— Правильно, река, — согласился Цаля и подумал о том, что для этого туркменского мальчика бурлящий поток, питающий его землю, дающий жизнь цветам и травам, действительно является такой же рекой, как для сибиряков Енисей или Иртыш, как для русских Волга, как для украинцев — Днепр.
— А это ваша жена? — вдруг поднялась и, буравя черненькими, искрящимися любопытством глазенками пришельцев, спросила девочка.
— Пока еще нет. Эта тетя не хочет выходить за меня замуж, — серьезным тоном пожаловался Цаля.
— Почему же вы ее обнимаете?
— Потому что люблю.
Девчушка захихикала и закрыла лицо мокрым платком.
— Ну что ты такое говоришь ребенку!
Лиля вдруг сердито сняла его руку с плеча и пошла к машине:
Таксист рассмеялся и заискивающе сказал:
— За такую девушку большой калым придется платить.
— А теперь калым отменен, — обернулся в сторону машины мальчишка.
— Все грамотные стали, — вздохнул шофер и резко нажал на газ.
— Мой калым тебе, Лилька, — вся моя грешная жизнь.
— Калым дают не невесте, а ее родителям, а жизнь свою ты уже тысячу раз роздал другим, — снова прильнув к его плечу, пошутила Лиля.
— Неправда, есть еще порох в пороховницах, — вдруг обозленно возразил Цаля.
— Обиделся? — Лиля закурила и направила на Цалю струйку дыма.
Он откинулся на сиденье и промолчал.
— Обиделся, — глубоко затягиваясь, заключила Лиля, и уже всю дорогу они молчали.
Машина въехала в поселок, шофер зарулил на площадку у небольшого ресторанчика.
— Приехали к Семи братьям, — сообщил своим пассажирам.
Выйдя из машины, они увидели у знаменитой чинары уже не менее знаменитую кинозвезду Веру Потапову, заменившую в фильме Галину Коберскую, и звезду восходящую — Мишу Григорьева. Миша был на полголовы ниже ее ростом, и когда они снимались в кадре рядом, Вера надевала туфли на низких каблуках. Сейчас же она надела туфли на высоких каблуках, и Миша, стоя с ней рядом и видя, как десятки глаз праздно шатающихся курортников с любопытством рассматривают их, изо всех сил тянулся вверх, чтобы казаться выше. У него даже шея удлинилась, отчего он стал похож на молодого петушка, готового вот-вот захлопать крылышками и закукарекать. В руках у Веры Потаповой, как и у Лили был букетик тюльпанов, купленных, видимо, там же, в долинке над потоком. Вот Григорьев что-то шепнул Потаповой, она наклонилась и положила на вздувшиеся под землей корни чинары букетик цветов.
— Ах, черт, нас опередили! — с веселым возмущением сказал Цаля. — Ведь это была моя идея — подарить чинаре тюльпаны. И сказал я об этом только Мише, у него ведь фантазии ни-ни. Но воспользовался… А Вера и рада: ох, как эффектно это выглядит! Кто-то даже фотографирует их…
— Фотокор какой-то, весь обвешан аппаратами, даже с мигалкой в руках. А Мишка уже втрескался по уши, совсем голову потерял!
— Она однолюбка!.. — с ласковой уважительностью сказал Цаля.
— Будешь при таком муже: тридцать лет — а уже доктор наук, альпинист, красавец!
— А разве только за это и любят? — недоуменно спросил Цаля.
— А разве этого мало?
— Иногда и этого бывает недостаточно. Пойдем, и ты положишь цветы.
— Не хочу, нас ведь не будут фотографировать, — улыбнувшись, с напускной капризностью ответила Лиля. — Да и не хочу подражать.
— Умница, — обнял ее Цаля.
— Поехали еще куда-нибудь.
— Куда?
— Туда, где никого-никого нет…
Директор киногруппы Борис Семенович Скляр в тот день успел не только приобрести коллекцию, но, проделав эту волнующую его операцию, позвонил в аэропорт, узнал, принимают ли самолеты, и тут же отправился встречать куратора. Скляр знал о давней взаимной неприязни Коберского и Осеина, и поэтому поехал в аэропорт сам. Ждать долго не пришлось, да он — в общем-то человек пунктуальный, умеющий дорожить и своим, и чужим временем, на сей раз даже не сказам бы точно, сколько же он ждал самолет, так как ни разу не взглянул на свой точнейший из точных хронометр. Ожидая прибытия лайнера, Борис Семенович был самозабвенно занят другим: усевшись в кресло подальше от людей, в уголке зала ожидания, достал из портфеля альбом с только что приобретенной коллекцией — и уже не мог от нее оторваться. Когда объявили о посадке самолета, Скляр тяжело вздохнул, как это делают люди, которых вдруг отрывают от любимого дела, осторожно спрятал альбом в портфель и со своей обычной неторопливостью и степенностью направился к двери, ведущей на летное поле.
Невысокую, несколько нескладную, худощавую фигуру Осеина Скляр узнал издали. Тот был в квадратных модных очках и в неизменно широком берете, прикрывающем лысеющую большелобую голову. Осени, слегка наклонившись, что-то говорил идущей рядом с ним девушке, вероятно, случайной попутчице. Увидев Скляра, заулыбался и, широко разведя руки в стороны, словно для объятий, заключил в своей обычной манере:
— О, сам пан директор изволят меня встречать, значит, дела в группе не ахти!
— Вы же хорошо знаете мою давнишнюю симпатию к вам, Дмитрий Андреевич. А дела в группе — как и в любой другой, когда идет дождик.
— Посмотрели мы ваш материальчик, который вы отсняли, когда еще не было дождика…
— Ну и как?
— Все как в жизни: ходят, бегают…
— Но ходят-то как — хорошо или плохо? — подражая манере Осеина, поинтересовался Скляр.
— По-всякому.
— Ну, еще музыка будет, лучше под нее ходить-то…
— Музыка?.. Музыка — это та специя, которая добавляется в фильм, чтобы или сделать его немного вкуснее, или приглушить запах тухлятины. — Осеин рассмеялся и спросил доверительно. — А что бы, по-вашему, сказал на это великий Коберский? — И сам же ответил. — Он бы недовольно скривился и проворчал: «Ты, Митя, все такой же пошляк». Верно я говорю?
— Вы всегда любите заострять, — дипломатично ответил Скляр.
Осеин так и не понял, относилось это к музыке в кино или к Коберскому.
— Все гораздо проще… — вновь неопределенно проговорил Скляр и сдержанным, приглашающим жестом руки указал на ожидавшую их машину: — Прошу сюда.
Саид, сверкая своей золотой улыбкой и прижимая обе руки к сердцу, полупоклонился гостю:
— Ашхабад приветствует вас, Дмитрий Андреевич! Вы у нас частый гость…
— О, Саидушка, Саид Шарипович, салям алейкум! Ты, я вижу, навсегда прописался к киношникам — и в прошлом, и в позапрошлом году…
— Алейкум салям! — ответил Саид. — Люблю киношников, веселые люди.
— А как там мой любимец, Ашир Саидович? — словно вдруг позабыв о Скляре, спросил Осеин у Саида, садясь с ним рядом.
— Уже большой, в пятом классе. Заходите в гости, он вас помнит, и жена моя вас тоже хорошо помнит.
— Зайду, обязательно зайду, Саид. — Осеин обернулся к Скляру и сказал восторженно. — В прошлом году Саид угошал меня таким пловом, что ай-ай-ай! Лучше плова, чем в Туркмении, нигде не едал. А натуральное вино — мед! Не то что наша кислятина. Грешен, люблю все сладкое, а восточные сладости в особенности, в них столько аромата!
Осеин на восточный манер поцокал языком, примолк, глядя перед собой. «Дворники», с хрустом трущиеся о ветровое стекло, оставляли на нем веерообразные желтовато-серые потеки из глины и песка.
— Снова дождь — теперь уже с песочком! — весело, будто это его обрадовало, кивнул на стекло Осеин.
— С песочком, — ответил Саид. — Это у нас бывает.
Осеин снова повернулся к Скляру и заговорил о деле:
— Так вот, просмотрели мы пятьсот метров вашей пленки. Могу сообщить и приятное. Брак не по вашей вине, это уже установлено. Виноват проявочный цех.
— От этого нам не легче.
— Ну, все же… Однако и материал нас встревожил, а это уже хуже. Впечатление такое, что Коберский все еще ищет, как бы нащупывает…
— А искусство — это прежде всего вечный поиск извините за банальные слова, — осторожно заметил Скляр.
— Это не банальщина, это — истина, но дело не в ней. Поиск поиску рознь, ведь он и называется поиском потому, что не всегда знаешь, в каком направлении идти. Вы, Борис Семенович, мудрый и многоопытный человек, не мне вам объяснять… — Осеин помолчал и вдруг заговорил почти с грустью. — Вот знаете, когда-то шли на эшафот ради того, чтобы утвердить искусство, а теперь некоторые готовы искусство повести на эшафот, лишь бы самоутвердиться.