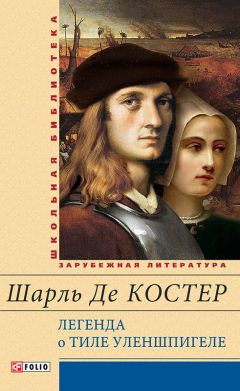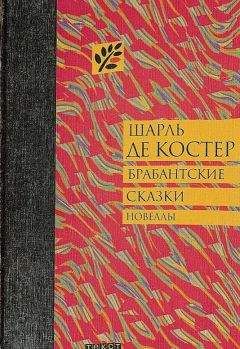А Тория всё кусала его, пока один старик, сжалившись, не отобрал у неё вафельницу.
Тогда Тория стала плевать ему в лицо, вырывала у него волосы и говорила:
– Медленным огнём и раскалёнными клещами – вот как ты расплатишься. Я своими ногтями выцарапаю тебе глаза!
Между тем, услышав, что оборотень не дьявол, а человек, подошли из Гейста все рыбаки, мужчины и женщины. Некоторые были с фонарями и с горящими факелами. Все кричали:
– Подлый убийца! Где ты спрятал золото, которое награбил у своих несчастных жертв? Пусть всё отдаст назад.
– У меня ничего нет! Пощадите! – отвечал рыбник.
И женщины бросали в него камнями и песком.
– Вот расплата, вот расплата! – кричала Тория.
– Помилуйте! – взывал он. – Я истекаю кровью! Пощадите!
– Твоя кровь! – кричала Тория. – Ещё хватит довольно, чтобы ты мог расплатиться ею. Смажьте бальзамом его раны. На медленном огне – вот твоя расплата; а руки ему оторвут раскалёнными клещами. Он заплатит.
И она бросилась бить его, но упала на землю без сознания, как мёртвая; и так оставили её, пока она не пришла в себя.
А Уленшпигель, высвободив между тем руки рыбника из капкана, увидел, что на правой руке у него не хватает трёх пальцев.
Он приказал потуже связать его и положить в корзину для рыбы. И мужчины, женщины и дети двинулись в Дамме, чтобы искать там суда и расправы, и поочерёдно несли корзину. И они несли также фонари и факелы.
И рыбник, не умолкая, повторял:
– Разбейте колокола! Убейте кричащих детей!
И Тория говорила:
– Пусть заплатит. Медленный огонь, раскалённые клещи – вот плата!
Затем все умолкли. И Уленшпигель слышал только порывистое дыхание Тории, тяжёлые шаги мужчин по песку и громовый шум бушующего моря.
С тоской в душе смотрел он на яростно несущиеся по небу тучи, на море, где сталкивались огненные барашки, и на озарённое светом фонарей и факелов бледное лицо рыбника, который не отрывал от него своего злобного взгляда.
И пепел стучал в его сердце.
Четыре часа шли они таким образом, пока пришли в Дамме, где встретила их толпа народа, уже знавшего о том, что произошло. Все хотели видеть рыбника, и толпы шли за рыбаками с пением, пляской и криками: «Поймали оборотня! Поймали убийцу! Слава Уленшпигелю! Да здравствует наш брат Уленшпигель! Lange leven onsen broeder Ulenspiegel!»
Это было точно народное восстание.
Когда они проходили мимо дома коменданта, тот вышел на шум и сказал:
– Ты победитель! Слава Уленшпигелю!
– Пепел Клааса стучал в моё сердце, – ответил Уленшпигель.
– Ты получишь половину достояния убийцы, – сказал комендант.
– Раздайте пострадавшим, – ответил Уленшпигель.
Явились Неле и Ламме. Неле смеялась и плакала от радости и целовала своего милого Уленшпигеля, а Ламме грузно плясал вокруг него, шлёпая его по животу, и говорил:
– Вот кто смел, и твёрд, и верен: это мой разлюбезный товарищ! У вас нет таких, вы, люди с равнины.
Но рыбаки смеялись и зубоскалили над ним.
Колокол, именуемый borgstorm, зазвучал на другой день, созывая судей, старшин и судебных писарей к Фирсхаре, на заседание суда под «липу правосудия». Кругом стоял народ. На допросе рыбник не хотел сознаться ни в чём даже тогда, когда ему показали три пальца, недостающие у него на правой руке и отрубленные солдатом. Он твердил только:
– Я беден и стар… сжальтесь!
Но народ ревел и кричал:
– Ты старый волк, детоубийца. Не щадите его, господа судьи.
Женщины кричали:
– Что уставился на нас своими ледяными глазами? Ты человек, а не дьявол: мы тебя не боимся. Жестокая ты тварь, трусливее кошки, которая грызёт птенцов в гнезде; ты убивал бедных девочек, которые хотели только честно прожить свою жизнь!
– На медленном огне, раскалёнными клещами – вот его расплата! – кричала Тория.
И, невзирая на стражу, матери подбивали своих малышей бросать камнями в рыбника. И те охотно делали это, свистели, когда он смотрел на них, и непрестанно кричали: – Bloed-zuyger – кровопийца! Sla dood – убей его!
И Тория неустанно повторяла:
– На медленный огонь! Раскалёнными клещами – вот его расплата.
И народ роптал.
– Посмотрите, – говорили женщины, – как под ясными лучами солнца его знобит, как он старается подставить теплу свои седые волосы и лицо, исцарапанное Торией.
– Он дрожит от боли.
– Это суд Божий!
– Какой у него жалкий вид!
– Посмотрите на руки злодея. Они связаны впереди, и из ран от капкана течёт кровь.
– Пусть расплатится, пусть расплатится! – кричала Тория.
А он хныкал:
– Я беден, отпустите меня.
Но все, даже судьи, смеялись над ним, слыша это. Он проливал лицемерные слёзы, чтобы растрогать людей. И женщины смеялись.
Так как основания для пытки были очевидны, то было постановлено предать его пытке и пытать до тех пор, пока он не сознается, как он совершал убийства, откуда явился, где добыча, награбленная им, и где спрятано золото.
В застенке на него надели тесные наножники из сырой кожи и судья спросил, как дьявол внушил ему эти злодейские замыслы и чудовищные преступления. Он ответил:
– Я сам дьявол: таково моё естество. Ребёнком я был уродлив и неспособен к телесным упражнениям. Я считался дурачком, и всякий бил меня. Ни мальчики, ни девочки не имели ко мне сострадания. Когда я подрос, ни одна женщина знать меня не хотела, даже за деньги. И холодная ненависть ко всему, что рождено женщиной, обуяла меня. Оттого и на Клааса я донёс, что его все любили. Я же любил только деньги; это была моя светлая, золотистая подруга. Смерть Клааса принесла мне радость и барыш. Потом чем дальше, тем больше я чувствовал желание жить волком, моей мечтой было кусаться. Будучи в Брабанте, я увидел тамошние щипцы для вафель и подумал, что из них вышла бы хорошая железная пасть. О, почему я не могу схватить вас за горло, жестокие тигры, злорадствующие, когда пытают старика! С большей радостью кусал бы я вас, чем девочку или солдата. Ибо, когда я увидел, как лежит и спит она, маленькая, под солнышком на песочке, и в руках свой кошелёчек держит, такая жалость и любовь к ней во мне разгорелась. Но так как я чувствовал себя немощным и не мог уже обладать ею, то укусил её…
На вопрос судьи, где он живёт, рыбник ответил:
– В Рамскапеле. Оттуда я хожу в Бланкенберге, Гейст и даже Кнокке. По воскресеньям и праздникам я в этой самой вафельнице пеку вафли по-брабантски. Чистенько и жирно. И спрос на эту иноземную новинку был хороший. Если вам ещё угодно спросить, почему никто меня не мог узнать, то знайте, что днём я чернил лицо и окрашивал волосы в рыжий цвет. Волчья шкура, в которую вы тычете вашим свирепым перстом, чтобы дознаться, откуда она, – я скажу, потому что презираю вас, – она от двух волков, которых я убил в Равесхоольском и Мальдегемском лесах. Сшил только обе шкуры в одну, вот они меня всего и закрыли. Я прятал их в ящике в гейтских дюнах. Там и одежда, которую я награбил. Я рассчитывал как-нибудь продать её по хорошей цене.
– Пододвиньте его к огню, – сказал судья.
Палач исполнил приказание.
– А где твои деньги? – спросил судья.
– Этого король не узнает, – ответил рыбник.
– Жгите его свечами, – сказал судья, – ещё ближе к огню, вот так.
Палач исполнил приказание, и рыбник закричал:
– Я ничего не скажу! Я и так уже сказал слишком много: вы сожжёте меня. Я не колдун, зачем вы пододвигаете меня к огню? Мои ноги истекают кровью от ожогов. Я ничего не скажу. Зачем ещё ближе? Кровь течёт, говорю вам, сапоги из раскалённого железа. Моё золото! Ну, да, это мой единственный друг на этом свете… отодвиньте от огня… оно лежит в моём погребе в Рамскапеле в ящике… оставьте его мне. Смилуйтесь и пощадите, господа судьи; проклятый палач, убери свечи… Он жжёт ещё сильнее! Оно в ящике, в двойном дне, завернуто в войлок, чтобы не слышно было звяканья, если двинуть сундук. Ну, вот теперь я всё сказал. Отодвиньте меня!
Когда его отодвинули от огня, он злобно засмеялся.
Судья спросил его, чему он смеётся.
– Стало легче, когда отодвинули, – сказал он.
Судья спросил:
– А не просил тебя никто показать твою вафельницу с зубьями?
– У других такие же, – ответил рыбник, – только в моей дырочки, в которые я ввинчивал железные зубья. Мужики предпочитают мои вафли прочим. Они называют их waefels met brabandsche knoppen – вафли с брабантскими пуговичками. Потому что, когда зубьев нет, от их дырочек выдавливаются в вафлях пупышки вроде пуговичек.
– Когда нападал ты на свои бедные жертвы? – спросил судья.
– Днём и ночью. Днём я бродил по дюнам и большим дорогам, нося с собой моё орудие, высматривал, особенно по субботам, когда в Брюгге большой базар. Если проходил мимо меня крестьянин мрачный, я его не трогал: я знал, что его печаль означает отлив в его кошельке. Если же он шёл весело, я следовал за ним и, неожиданно набросившись, прокусывал ему затылок и отбирал у него кошелёк. И так я делал не только на дюнах, но и на равнине по тропинкам и дорогам.