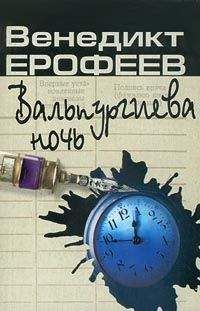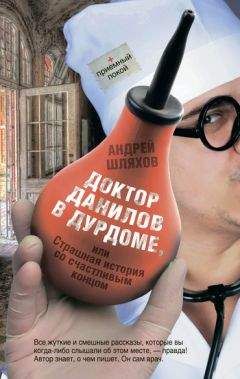Михалыч (его понемножку освобождают от пут). Выпить хочу…
Прохоров. Да это же совершенно наш человек! Но прежде стань на колени и скажи свое последнее слово.
Михалыч вздрагивает.
Да нет, ты просто принеси извинения оскорбленной великой нации – и так, чтобы тебя услышали прежние друзья-приятели из СевероАтлантического Пакта.
Михалыч (быстро-быстро, косясь на Прохорова, наливающего заранее). Москва – город затейный: что ни дом, то питейный. Хворого пост и трезвого молитва до Бога не доходят. Чай-кофе не по нутру, была бы водка поутру. Первая рюмка колом, вторая соколом, а остальные мелкими пташками. Пить – горе, а не пить – вдвое. Недопой хуже перепоя. Глядя на пиво, и плясать хочется…
Прохоров (намного одушевленнее, чем во втором акте). Так– так-так…
Михалыч. Справа немцы, слева турки, пропустить бы политурки. Без поливки и капуста сохнет. Что-то стали руки зябнуть, не пора ли нам дерябнуть. Что-то стало холодать, не пора ли…
Гуревич. Пора, мой друг, пора…
Михалыч вытаращивает глаза от крепости напитка и переменземного жребия.
По нашей Конституции, адмирал, каждый гражданин СССР имеет право выпучивать глаза, но не до отказа… Вова!!!
Вова приходит покорно, но почему-то держа за руку бледногоКолю.
Дети, армянский коньяк на столе, читайте молитву. (Прохорову) А почему они, собственно, здесь – а не там?
Прохоров. Ну, ты же сам слышал… эстонец… голова болит… Разве этого недостаточно?… А что касается Вовы – так он просто так… подозревается в уникальности.
Гуревич. Не надо кручиниться, Вова, завтра же будешь со мной на свободе. У тебя есть мечта?
Вова. Да, да, есть. Я хочу у себя в пруду развести такую рыбку – она называется гамбузия. Так вот эта рыбка, гамбузия, поедает в своем пруду всех комариных личинок, а заодно и все лямблии. Потому что стоит человеку проглотить вместе с водой одну только лямблию, как она, сама по себе, порождает другую лямблию, а третья лямблия, родившись от сочетания первых двух люмблий…
Гуревич. И сколько этих вот самых лямблий может враз заглотать твоя рыбка гамбузия?
Вова. Она может схавать зараз семьдесят пять штук.
Гуревич. И не поперхнуться?
Вова. И не поперхнуться.
Гуревич. Отлично. Вот ровно столько граммов ему и налейте. Только разбавьте водой. А Боренька-Мордоворот сегодня же ночью расплатится за то, что сделал тебе на носу «мо-дус-вивенди»…
Вова (единым залпом выпив, – то, как травка, зеленеет, то, как солнышко, блестит). А самое главное, чем хороша гамбузия, – так от нее ни одного комарика в воздухе. Никто вас не укусит, смело идите в лес, мои маленькие радиослушатели. И гуляйте, пока не позовет Эдик…
Прохоров. А что это за Эдик?
Вова. Никто не знает. Но как только подымается Геспер, тут надо расходиться по домам, потому что Эдик делает знак: пора расходиться. Ничего не поделаешь… Сергунчик, мой внук, не послушался, – и вот результат: ветры унесли его неведомо куда… по заказу Гостелерадио…
Гуревич. Удивительная все-таки страна – Россия! Ну, с какой стати Эдик? На каком основании – Эдик?… (Обращается к Коле) Коля! Ты смыслишь что-нибудь в этой белиберде?
Коля. Конечно. Я уже давно усвоил эту дхарму. (Простирая к публике руку) Отцы наши ели кислый виноград, а у детей на столе один только вермут, и больше ничего.
Десертным вермутом облит,
Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовет его – напрасно, его уж нет,
Младой певец нашел безвременный конец.
Особой водки он просил,
И взор являл живую муку, -
И кто– то вермут положил
В его протянутую руку…
Гуревич. Здорово! Налейте поэту мушкателейнвейну!
Коля (выпивает свою дозу «мушкателейнвейна»). А откуда в нашей палате взялся мушкателейнвейн?
Прохоров. Все оттуда же. А откуда в нашей палате, со слабоумными расспросами, взялись пытливые юноши? Взялось, значит, взялось. И при этом, кроме чести, не потеряно ничего. Если явятся вопросы еще, обратитесь к Вите.
Гуревич. Да, да. Если кому чего не ясно – пусть обращается к нашему незабвенному гроссмейстеру. Какая честь – еще при жизни называться незабвенным! Вы-тя! Корчной! то новенького-шизофреновенького?
Все смотрят на Витю. Не совсем понятно, спит он или проснулся,потому что улыбка его, оставаясь дежурной на время сна,становится, по пробуждении, сардоническою. Сейчас ничего этогонет.
Гуревич. Ну, очень просто определить, спит человек или нет. Если он хочет присоединиться к компании, значит: проснулся. А если не хочет – стало быть, спит и не проснется вовеки…
Витя. Я проснулся. И пока в этом мире не кончится мушкателейнвейн, я никогда не усну.
Прохоров (поднося Вите). Теперь ты понимаешь, гроссмейстер, что мы живем не то что в мире справедливости, а в мире такой справедливости, которая даже чуть выше в сравнении с наивысшей?…
Витя (приподымая большую, розовую голову). А я не умру?
Гуревич. Ты, Витя, слишком высокого о себе мнения. Во всей происходящей драме – до тебя – никто ни словом не обмолвился о смерти, хоть все и поддавали. Счастье человека – в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей. Пьер Безухов. А если уж смерть – так смерть. Смерть – это всего лишь один неприятный миг, и не стоит принимать его всерьез. Аугусто Сандино.
Витя пьет и – встает. Всех обнимая своей улыбкой – и не стыдясьживота своего, почему-то направляется к выходу.
Прохоров. Наконец-то! Отрада и ужас Вселенной – Витя – хочет пройтись в сторону клозета… Стасик! Прекрати свои «рот-фронты». Иди сюда…
Гуревич (спохватившись). Да, да. Никакие «рот-фронты» и нопасараны уже не пройдут. Над всей Гишпанией – безоблачное небо. Франсиско Франко. По этому поводу опусти руку и подойди.
Стасик. А у нас есть о чем побеседовать: массированное давление на Исламабад, подводные лодки в степях Украины! И – вдобавок ко всему – насильник дядя Вася в зарослях укропа. И марионетка Чонду-Хван, он все мечтает стереть Советскую Россию с лица земли. Но разве можно стереть того, у кого так много-много земли – и никакого-никакого лица? Вот до чего доводит узкоглазость этих чон-ду-хванов…
Гуревич. Налить ему немедля! И пропорционально тому, что он здесь сейчас нагородил… Боже мой, Витя!…
Витя (с улыбкой, обаятельней которой не было от Сотворения). Вот, пожалуйста, шахматная фигура, я обмыл ее проточной водой… (Ставит на стол посреди палаты – еще один белый ферзь)
Два белых ферзя рядом – это уж слишком. Многие теряют и остаткисвоих убогих рассудков.
Прохоров. С шахматами мы потом разберемся… А шашки где?
Витя стыдливо молчит. За дверью слышны каблучки. Это Натали споследним обходом. И, слава богу, она уже слегка первомайскиподдатая. Иначе она уловила бы в палате спиртной дух.
Прохоров. Тишина!… Все – по местам! Накрыться с головой!
Натали входит, всем желает спокойной ночи. Поправляетодеяло – у тех, на ком плохо лежит. Присаживается у изголовьяГуревича. Никому не слышные – а может быть, слышные всем -шепоты и нежности.
Натали (полушепотом). Ни о чем не думай, Лев, все будет хорошо.
Гуревич пробует что-то сказать.
(Прикладывает пальчик к губам) Тсс… Все дрыхнут. В коридоре не души. Адье. Спокойной ночи, алкаши. (Проплывает к выходу, тихотихо прикрывает за собой дверь)
Стук удаляющихся каблучков. Все пациенты разом сбрасывают ссебя одеяла, приподымаются в постелях и завороженно глядят надва белых ферзя посреди палаты.
З А Н А В Е СМежду четвертым и пятым актами – пять-семь минут длится музыка, не похожая ни на что и похожая на все, что угодно: помесь грузинских лезгинок, кафешантанных танцев начала века,дурацкого вступления к партии Варлаама в опере Мусоргского,канканов и кэкуоков, российских балаганных плясов и самыхбравурных мотивов из мадьярских оперетт времен крушения Австро-Венгерской монархии. Поднимается занавес. Все та же третьяпалата, несколько часов спустя: все выглядит настолько иначе,что глупо и говорить об этом.