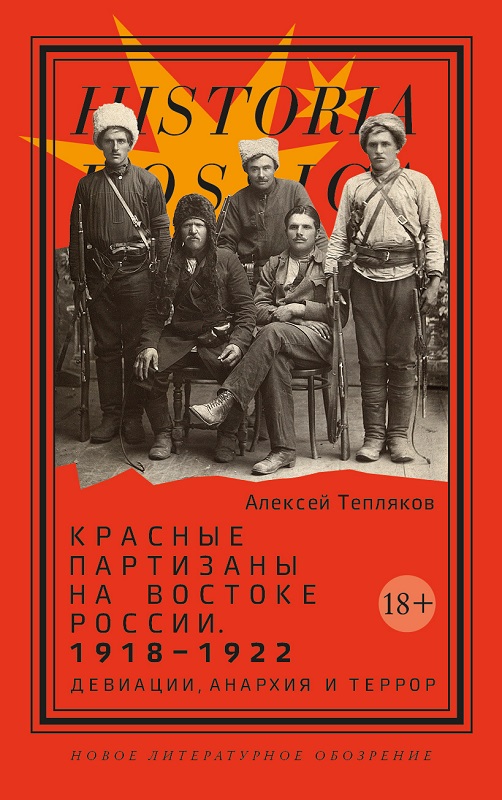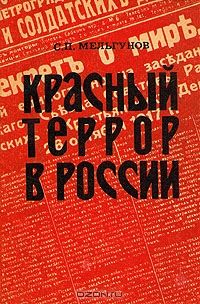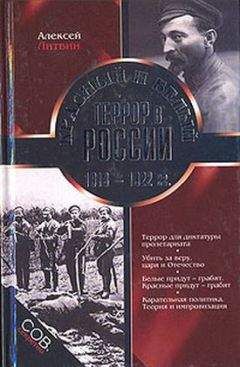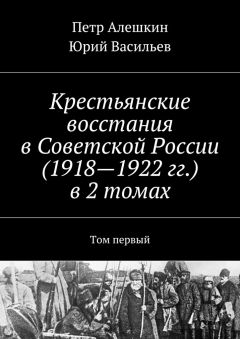в стране насчитывалось 7,5 млн беспризорных детей, 10% которых принимали наркотики [175].
Массы в тот период активно спивались, маргинализировались и криминализировались – и в деревне, и в городе, причем начальство не отставало от рядового населения. Пьянство очень серьезно осложняло общественно-экономическую и криминогенную ситуацию в стране. В 1921 году в Новгородской губернской парторганизации оно, по утверждению одного из видных партийцев, «носило характер какого-то стихийного недуга» [176]. Пресса и сводки ЧК за 1919–1922 годы густо насыщены сообщениями об алкоголизации как советско-партийных работников (и руководящих, и рядовых), так и чекистов с милиционерами [177].
Из краткого чекистского обзора политико-экономического состояния РСФСР за декабрь 1922 года следовало, что пьянство в Омской губернии «захватывает милицию, Исполкомы, совслужащих» и повсеместно фиксируются «частые пьяные дебоши», в Новониколаевской губернии пьянство «продолжается и принимает огромные размеры», в Иркутской губернии – также «принимает все более и более широкие размеры», охватывая и коммунистов [178]. В городе Киренске Иркутской губернии 1 ноября 1922 года было арестовано 45 человек «пьяных, большинство ответственных работников» [179]. В Томской губернии пьянствовало «поголовно все население» заодно с членами волисполкомов, причем попойки сопровождались драками и убийствами [180]. В начале 1923 года коммунисты Нижне-Жиримской сельской ячейки в Тарбагатайском районе Прибайкальской области сообщали: «Среди масс страшно развито пьянство, дебош[,] и молодежь в пьяном виде выходит на улицу драться кольями…» [181]
Последующие несколько лет не изменили обстановки с алкоголизацией – что населения, что номенклатуры. Пример подавали верхи. В ЦК из Калужского губкома партии переслали с грифом «секретно» письмо члена бюро сельской партячейки: «20 февраля 1926 года на разъезде Кошняки проехали в Москву Наркомвоенмор т. Ворошилов, Наркомзем тов. [А. П.] Смирнов, Наркомпочтель тов. [И. Н.] Смирнов и др. Означенные т. т. были сильно пьяны <…> привлекали для себя внимание всех граждан[,] бывших при отправлении…» [182] Секретарь партячейки коммуны им. Троцкого в заявлении для Бочатского райкома ВКП(б) Кузнецкого округа в январе 1926 года писал, что поголовное пьянство просто захлестнуло население: «…сельсовет пьяный, сельисполнители также не уступают…», а население «целиком и полностью отдалось земному богу – самогону» [183]. Старший помощник прокурора по Сибири, объехав в начале 1926 года Коченёвский район Новониколаевского округа, отчитывался: «Отталкивающим от широких крестьянских масс служит пьянка коммунистов, хулиганство, растраты… Члены партии закладывают партбилеты за самогонку… В комсомольском клубе пьяные комсомольцы с девушек снимают одежды и все белье, голых ставят на середину и устраивают круговую пляску. Таких явлений масса…» [184]
Летом 1926 года, как отмечала чекистская сводка, пьянство, злоупотребления и халатность райисполкомов Сибирского края «ставят под угрозу срыва советской работы на местах и потери авторитета Соваппарата в целом», алкоголизация «местами захлестывает районных работников, делая их совершенно негодными для работы» [185]. В конце 1927 года Томский окружной исполком сообщал: «Пьянство, как таковое, особенно среди работников сельсоветов, вошло в обыденный быт и трудно поддается искоренению» [186].
Оставалась крайне высокой и уголовная преступность. В письме в ЦК партии секретарь Иркутского губкома ВКП(б) А. В. Гриневич, обозревая развитие губернии за 1924–1925 годы, сообщал: «В деревне и городских поселках наблюдается громадное увеличение хулиганства, доходящего до драк, убийств, поножовщины» [187]. Далее ситуация в ряде районов ухудшалась. Например, по Ачинскому округу в середине 1926 года за неполные полтора месяца было зафиксировано около 500 убийств, а в «Барабинском округе во время одного праздника в одном только селе убито 25 чел.» [188]. Есть и другие данные по «пьяной» смертности в Ачинском округе: Пасху 1926 года ачинские крестьяне отмечали так, что в дни ее милицией были подняты 43 трупа. Смертность в данном округе при праздновании всех церковных праздников доходила до 200 человек в год [189].
Вообще, 1926 год дал пик сельской преступности в СССР. Произошел настоящий криминальный взрыв: количество преступлений против личности выросло более чем в 4,5 раза, притом что акций против властей стало меньше [190]. Информационный отдел ОГПУ 4 июня представил В. М. Молотову докладную записку о росте хулиганства в Сибири, где только за первые месяцы года количество преступлений, отнесенных к хулиганству, выросло в деревне по сравнению с последним кварталом 1925 года более чем на треть. При этом из общего числа привлеченных к ответственности за хулиганство около 30% составляли комсомольцы и коммунисты [191]. В 1927 году краевая милиция отмечала, что основная часть убийств на селе совершается пьяными [192]. Приходится признать: и спустя десятилетие после революции абсурдные человеческие потери в залитой самогоном провинции не так уж сильно уступали тем, что были в Гражданскую войну [193].
Говоря о прямом демографическом ущербе от партизанщины, следует отметить, что вопрос подсчета жертв красных повстанцев решается пока только в самом общем плане. По мнению А. В. Мармышева и А. Г. Елисеенко, погибших от партизанского террора в Енисейской губернии, возможно, было не меньше, чем от карательной политики колчаковцев. В своей монографии о сибирских чекистах автор высказывался в сходном ключе применительно к Сибири вообще [194]. Но после углубленного изучения материала представляется, что в целом на востоке России было значительно больше погибших от рук красных повстанцев, чем от карательных акций белых.
Между тем традиционные для советской историографии некритические оценки красного и белого террора распространены до сих пор. А. А. Штырбул продолжает писать про «классовую ненависть имущих классов к революционным трудящимся» [195]. Краевед Г. Г. Лёвкин – верный апологет партизана Я. И. Тряпицына, уничтожившего в 1920 году Николаевск-на-Амуре, – оспаривает факт полного уничтожения города и при этом обвиняет японцев в том, что они не затушили остатков. Характерно, что вождя ДВР А. М. Краснощёкова Лёвкин упорно, при каждом упоминании, именует Тобельсоном, откровенно намекая, что этот еврей и эмигрант-антипатриот был ставленником буржуазии США и строил на Дальнем Востоке никчемную буржуазно-демократическую республику, чем сознательно затягивал – с одобрения Л. Троцкого – Гражданскую войну [196]. Крайняя коммунистическая ангажированность вкупе с присущим современным идеологам и сторонникам КПРФ отчетливым душком конспирологического антисемитизма [197] обесценивают попытки Лёвкина, много работавшего в архивах, разобраться в тряпицынщине.
Историк анархизма В. В. Кривенький осуждает тех российских публицистов, которые именуют зловещих тряпицынцев не «отечественными повстанцами и партизанами», а бандитами и головорезами [198]; о похождениях сибирских атаманов Г. Ф. Рогова, И. П. Новосёлова, П. К. Лубкова он не упоминает вовсе. Д. И. Рублёв в обобщающей монографии об анархистах [199] использовал – для рассказа о сибирских и дальневосточных партизанских вожаках – лишь обеляющие их