собирал и отправлял передачи для политзаключенных под видом передач для своего брата, записывал по радио советские сводки, привлекал к работе новых ремсистов, стал одним из руководителей ремсистской организации гимназии. Целыми ночами он пропадал на ученических квартирах, в лесах и горах, собирал оружие. В Стрелче (не всякому взрослому было бы по плечу это нелегкое дело!) он купил печку для партизан и доставил ее в лагерь. А сколько продуктов привозил он на своем осле? Зарабатывая себе на жизнь сапожным ремеслом, он шил обувь, которая как нельзя лучше подходила для партизанских троп. А каким разведчиком он был! Такого хотел бы иметь каждый отряд!..
Невысокий, слегка сутулящийся, черноволосый. Взрослым его в первую очередь делали глаза — черные, большие, сосредоточенные, под густыми сросшимися бровями. Курносый нос его был совсем детским, но красиво очерченные губы — мужественными. На смуглых щеках быстро появлялся румянец, особенно когда он волновался. По-детски любил он свой красный свитер с высоким воротником, любил и за то, что он был красным.
Тихоня, он говорил немного, предпочитая слушать товарищей, и хитрым, но дружелюбным взглядом оценивал все. Был молчаливым, но открытым. Никогда не спешил, но ходил быстро, и любая работа у него спорилась. Удивление вызывала не его смелость (в молодые годы она легко объяснима), а сильный, уже сформировавшийся характер, чувство уверенности, которое он внушал и взрослым. Его зрелость проявлялась в добродушии, учтивости по отношению к людям, в умении стать выше мелочей. Ведь только тот, кто знал, какой ненавистью кипит он к легионерам, мог понять, скольких усилий ему стоило сдерживать себя. Но он заставлял себя — надо. И необходимо было иметь большой опыт: незаметно, в нужное время совал он деньги своему товарищу («Будешь покупать в разных магазинах, понемножку...»), по делам встречался со многими и каждому говорил, как клятву: «Знаем только мы двое, никому ни слова...»
И все ему было мало, хотелось еще и еще...
Теперь в классе школы, ставшем местом пыток (как весело шутили они когда-то: «Учители-мучители!»), товарищи всей душой оценили его. Они хотели бы спасти его, но были бессильны. Нет, они были сильны, сильны своим молчанием, и полиция ничего не знала, кроме того, что к сапожнику ходили партизаны: выдал его пастух.
...Шел он с большим трудом: слишком широкие шаги делали солдаты. Все было реальным, страшно реальным, а он испытывал такое чувство, будто все это происходит вне его, без него. Казалось, еще горели забитые под ногти спички и тело его конвульсивно вздрагивало, будто бил его электрический ток. Веки болели от бессонницы и яркого солнца, но боль эта уже притупилась. И будто чей-то голос со стороны говорил ему: «Ты должен выдержать еще немного, до конца!» Он уже не испытывал радости, как в первые дни, от того, что оказался сильнее их. Сейчас ему было тяжелее всего. Просто надо было выдержать.
Дорога долго вилась по ложбине, повторяя изгибы реки, потом наискось пересекла лесистые холмы и поднялась к широким полянам на плоскогорье.
— Привал! — закричал поручик.
Все присели. Ваньо подогнул тулуп под себя. Лицо его оживилось. Его вдруг охватила какая-то необъяснимая радость. А ведь это было одно из самых красивых мест в сказочном Среднегорье. На севере под самым небом светился белый Вежен, недалеко, на юге, искрилась Буная, на западе виднелись ровные поляны, а на востоке — величественный Богдан. Ваньо невольно испугался своих мыслей: вдруг они прочтут их? Своим внутренним взглядом он видел то, чего враги не могли видеть: Баррикады, землянку, длинную партизанскую колонну... Он не шевелился, закутавшись в тулуп. Большие глаза были широко раскрыты...
Поручик старался не смотреть ему в лицо: хотя он его и не истязал, но испытывал некоторое чувство неловкости. Паренек, забывшись, весь преобразился. И вдруг поручик вздрогнул: слезы! Настоящие слезы. В первый раз... Эх, если б удалось заставить паренька заговорить, как бы он отличился перед генералом и какое удовлетворение получил бы сам: сломил такого! Поручик подошел к Ваньо и чуть было не положил ему руку на плечо, но спохватился: не надо спешить.
— Что, парень, не хочется умирать?
Маленький Патриот даже не обернулся, взгляд его оставался просветленным... Он был последним, кто встречался с отрядом вечером, накануне операции. «Эй, большая же у вас сила! — сжал он руку командира, увидев длинную колонну. Сердце его, как и руки, плясало от радости, но он сразу же принялся докладывать. Много дней наблюдал он за всем, что делалось в Копривштице, все разузнал и обо всем сообщил. Оставалось сделать лишь немного...
А на следующий день, увидев свою Копривштицу свободной, партизанской, Ваньо был по-детски счастлив и по-мужски горд: ее великий праздник готовил и он. И он не мог поступить иначе. Схватив рюкзак, Ваньо заявил: «Я иду с вами!» Это было неожиданно. Товарищи серьезно взвесили все «за» и «против». Решили: мал он все же, слаб, не под силу ему будет с ними. А как сказать ему об этом? Стали убеждать, что ему необходимо остаться, что здесь он нужнее. Ваньо снял свой рюкзак, протянул его одному из партизан и со слезами на глазах проговорил: «Если необходимо, я останусь!»
Не могу удержаться, Копривштица, чтобы не спросить тебя: «Разве мало тебе героев? Или тебе необходимо было показать, что и дети твои — герои?.. Знал ли он, что ты причисляешь и его к своим самым великим сынам?..»
Слезы были такими же, что и в тот день, который остался в его памяти как самый радостный. Но теперь он не мог подавить сожаления: «Был бы я сейчас там, с ними...» Он не хотел обольщаться, но все-таки думал: «Вот если б они были где-нибудь поблизости, ударили бы по этим...»
— Хочется жить, правда? Что ж, если хочешь... — вернул его к действительности голос поручика.
Ваньо отстранился, раздосадованный тем, что офицер увидел его слезы. И вдруг его пронзила мысль: «Они действительно могут убить...» Какое солнце! Какие горы! А ему грозит смерть! В шестнадцать лет. И ему так захотелось жить, что он чуть было не закричал. Мысли путались, и он невольно вздрогнул. Ведь он сам всегда говорил, что уже большой. Каждый раз, встречаясь с партизанами, он хотел вступить в отряд и каждый раз слышал один ответ. «Мал ты, Ваньо, у нас очень тяжело. Удивительно, как ты справляешься со всем, что тебе поручают. Тяжело мне говорить. Может, мы и не правы...» — сказал ему однажды бай Стайко. Ваньо не рассердился, но настойчиво твердил свое:
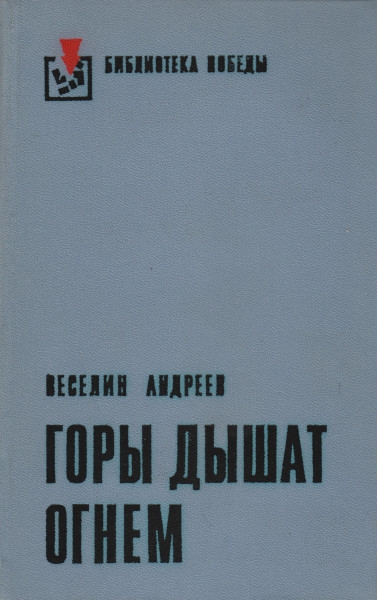
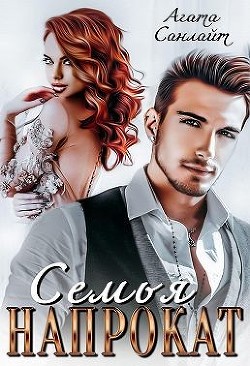
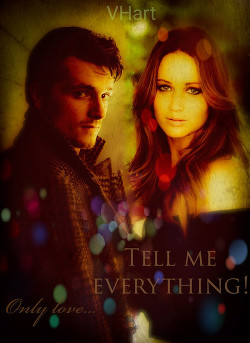


![Ульяна Соболева - Пусть меня осудят...[СИ]](https://cdn.my-library.info/books/4010/4010.jpg)