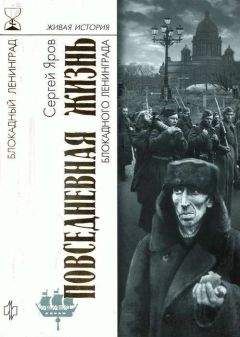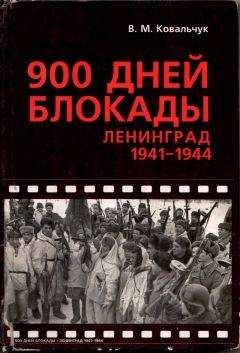Работа в госпиталях и больницах являлась очень тяжелой не только ввиду бытовых трудностей. Контуженные, испытавшие сильные боли, не оправившиеся от пережитых потрясений, последствий бомбежек и гибели родных люди, оказавшиеся здесь, отличались нервностью, обостренно воспринимали каждую мелочь, способны были в любой оплошности увидеть скрытый умысел. От врачей и сестер требовалось внимание к нуждам пациентов, но как исполнить их просьбы, если всего не хватало. «Как тяжело и обидно! Когда они лежат… тогда “сестренка” и “спасибо”, а чуть легче стало, как “костылем по голове”», — жаловалась в письме родным 23 ноября 1942 года Л.С. Левитан{631}. Больные при переводе в новое лечебное учреждение, как сообщал А. Коровин, «внезапно становились неузнаваемо капризными, требовательными», пришлось ему увидеть и «заплаканных девушек», отказавшихся их обслуживать{632}.
Такие случаи были, но надо отметить и другое. Сколько раз в воспоминаниях, дневниках и письмах мы обнаруживаем рассказы о том, как искренне горевали врачи и сестры, не сумев спасти больных, с каким содроганием они говорили о их муках. Пациенты иногда подкармливали своим пайком голодных медсестер и ютившихся рядом их детей — и об этом необходимо упомянуть. Умирающие люди вели доверительные беседы с теми, кто ухаживал за ними, просили писать за них письма, рассказывали семейные истории. Не все становились здесь близкими друзьями, но человеческое неизбежно прорывалось через раздражение из-за тяжелых ведер и замызганных полов, через перепалки с больными. Одна из женщин рассказывала о «пареньке», которого опекали в больнице. Вот эти люди, простые, бесхитростные в своих признаниях без патетики и прикрас: «Привезли его, он стоять не мог, его внесли… И когда он уходил, мы его нарядили. Одежки-то много всякой оставалось, мы все это перестирали, одели и… от нас ушел — ну просто же я не знаю, принц какой-то»{633}.
Состояние больниц на рубеже 1941 — 1942 годов было плохим. Отсутствовал свет, не хватало топлива и керосина. Главной проблемой стало прекращение подачи воды. Ее нечем было согреть. Больных в холодной воде полностью мыть было нельзя, иногда неделями не проводилась санобработка. «Укладывали на доски, перекинутые через ванны… обмывали прохладной мыльной водой доступные для мочалки незабинтованные части. Раненые дрожали от холода и громко щелкали зубами», — вспоминал А. Коровин{634}.
Отсутствие мыла старались восполнить щелочными средствами, которые оборачивали тряпками, но они сильно разъедали руки. Поскольку не хватало бинтов и марли, размачивали в растворах использованные гипсовые материалы, затем они простирывались. Не все нуждавшиеся имели костыли (особенно дефицитными стали детские костыли). Скудным был ассортимент медикаментов. В госпитале на Менделеевской линии раны приходилось коптить дымом. Не все были обеспечены теплой запасной одеждой, обувью, варежками, шерстяными носками{635}. В докладной записке военного отдела ГК ВКП(б) (март 1942 года) отмечалось, что в госпиталях «ухудшилось питание, прекратилась стирка и смена белья, бойцы не обмывались, появилась среди раненых и больных вшивость, упало санитарное состояние… (прекращение работы уборных, умывальников и т. д.)»{636}. А.Н. Болдырев в начале 1942 года видел в одном из госпиталей, считавшемся лучшим в городе, уборную, загаженную «в навал, холодную»{637}.
Положение в госпиталях и больницах начало меняться со второй половины весны 1942 года. Связано это было во многом с улучшением питания в городе и ремонтом водопроводов, использованием деревянных заборов и домов в качестве дров для отопления больниц и госпиталей, а также с эвакуацией в тыл тяжелобольных, которых не могли вывезти из города до открытия ледовой трассы. Нельзя не отметить и шефскую помощь предприятий, школ и учреждений. Шефская работа имела свои спады и подъемы, обусловленные положением в городе, но даже и в «смертное время» она не прекращалась. Отдавали или шили теплую одежду для больных, собирали подарки, посуду (ее ле хватало в больницах). Пациентам читали книги и газеты, помогали писать письма. Дети порой давали концерты{638}. Их часто видели в госпиталях в сентябре—октябре 1942 года. «Иногда нам дают несложную работу: скручивать бинты, делать тампоны. Один раз мыли посуду», — вспоминала школьница Г. К Зимницкая{639}. К госпиталям весной 1942 года было «прикреплено» 351 городское предприятие. На них создавались бригады, которые помогали убирать палаты, стирать белье{640}; летом 1942 года обязали предприятия отдавать часть урожая с их огородов лечебным учреждениям. Конечно, при этом не могло не возникнуть трений, — как вспоминала директор фабрики «Светоч» А.П. Алексеева, «когда мы делили урожай, мы даже с госпиталем ссорились… хотели им дать поменьше картофеля»{641}. Это объяснимо, все были голодны и, наверное, делились с другими людьми порой неохотно, — но делились и отдавали продукты, хотя и не без колебаний. И несли из домов свою посуду и, будучи сами истощенными, мыли полы. Особо хочется отметить помощь прихожан и священнослужителей. Никто не принуждал их к оказанию шефской помощи, но и они, движимые чувством милосердия и сострадания, как могли пытались смягчить муки несчастных людей, пытавшихся выжить в больницах и госпиталях. Около ста полотенец, бинты, теплая одежда были собраны приходом Спасо-Преображенского собора и переданы в больницы и госпитали{642}.
Помощь шефов была тем нужнее, что больные жили часто впроголодь. Одаривать их щедрыми госпитальными пайками не имелось возможностей, хотя они и рассчитывали на это. «Голодающих ни в какой стадии в больницы не принимают — кормить нечем», — сообщал В. Кулябко{643}. Часть пациентов подкармливали родные из своих запасов: карточки у заболевших изымались, они переводились на трехразовое ежедневное котловое питание в столовых. Плохо пришлось тем, кто не имел такой поддержки. «Просит меня Христом-Богом прислать ему граммов 200 хлеба и густой каши», — сообщала А.Н. Боровикова об одном из рабочих, помещенных в больницу{644}. Здесь голод ощущался еще сильнее, было меньше возможностей как-то извернуться, приготовить домашние блюда из немыслимых суррогатов, что-то взять в долг. «На кой… мне порошки, мне жрать давай» — так иногда отвечали в больнице медсестрам{645}. Пациентам разрешалось взвешивать свою порцию на весах, но случалось, что и кипяток для них некому было подать. Побывавший в госпитале Л. А. Ходорков описал такую сцену: «Палата. Сестра принесла кипяток, на всех койках зашевелились. Сестра, мне… Сестра, мне. Давно не давали кипяток — дня три»{646}.
Кормить больных стали сытнее с лета 1942 года, но «слабое питание» отмечалось и в это время. Л.В. Шапорина, лечившаяся в больнице в августе 1942 года, передавала в дневнике меню столовой в «сытый день»: «на завтрак — 200 гр. гречневой каши и чай, на обед — суп из зеленых листьев капусты с крупицами пшена, 220 гр. не очень густой рисовой каши с изюмом, а также неполный стакан киселя из урюка». Ужинала она 200 граммами жидкой «овсянки»{647}. А вот меню «генеральского» госпиталя в то же лето 1942 года: «водка, шпроты, сардины, сыр, крабы, масло — неограниченно, а затем шашлык на палочке с рисом и салатом»{648}.
Для людей, не бывавших в генеральских столовых, посещение родных в госпиталях являлось нередко и способом подкормиться самим. Они несли сюда скудные дары, но рассчитывали, что перепадет что-то и им из больничных продуктовых наборов. «Я приходила к ней каждый день, не только потому, что я хотела ее видеть, но и потому, что она делилась со мной супом, который ей давали», — вспоминала о посещении матери в больнице Н.Е. Гаврилина{649}. Случалось, детей, особенно маленьких, приведенных родителями в больницу, угощали и другие больные, движимые состраданием.
Разговоры о хищениях в госпиталях и больницах были частыми в городе и для этого имелись основания. Работники здесь получали не только карточку I категории, но могли и получать еду, оставшуюся после умерших, еду, которую не успели «разверстать» между теми, кто только недавно прибыл на лечение и не был поставлен на учет. Для медицинских работников оформлялись пропуски в столовые как для больных, на кухне делали более жидкими каши и супы, не выдавали пациентам причитавшихся им дополнительных продуктов, о чем последние могли и не знать, — всё было… Отметим, сколь часто здесь кормили «концертантов», артистов, чтецов, лекторов, — откуда же взялись для этого продукты, если не из общего больничного котла.
Большинство врачей и медсестер, однако, не роскошествовали. Умирали от истощения и они. «Встаю в очередь, а впереди женщина как-то случайно говорит: “…у нас на работе все умирают, мало народу остается”. А она, оказывается, санитарка из Максимилиановскои больницы. А я думаю, там требуются люди, может, и меня возьмут… Пошла туда в отдел кадров и говорю, что пришла устраиваться к ним на работу, так как знаю, что у них не хватает людей. Меня оформили и взяли в больницу в качестве разнорабочей», — вспоминала Н.И. Быковская{650}. Многие врачи и медсестры поддерживали своих родных, нередко иждивенцев, да и не столь сильно в «смертное время» выдачи по рабочим карточкам превышали нормы служащих. «Кормили больных — протягивали ложку с кашей, и сами рот открывали», — вспоминала А.М. Безобразова{651}. Котловое питание в госпиталях в первый голодный месяц (ноябрь 1941 года) даже по рабочим карточкам являлось скудным: жидкий (то есть пустой) суп, каша-размазня, 50 граммов мяса и 400 граммов хлеба — главное достоинство такой карточки, ради чего и нанимались работать в больницы.