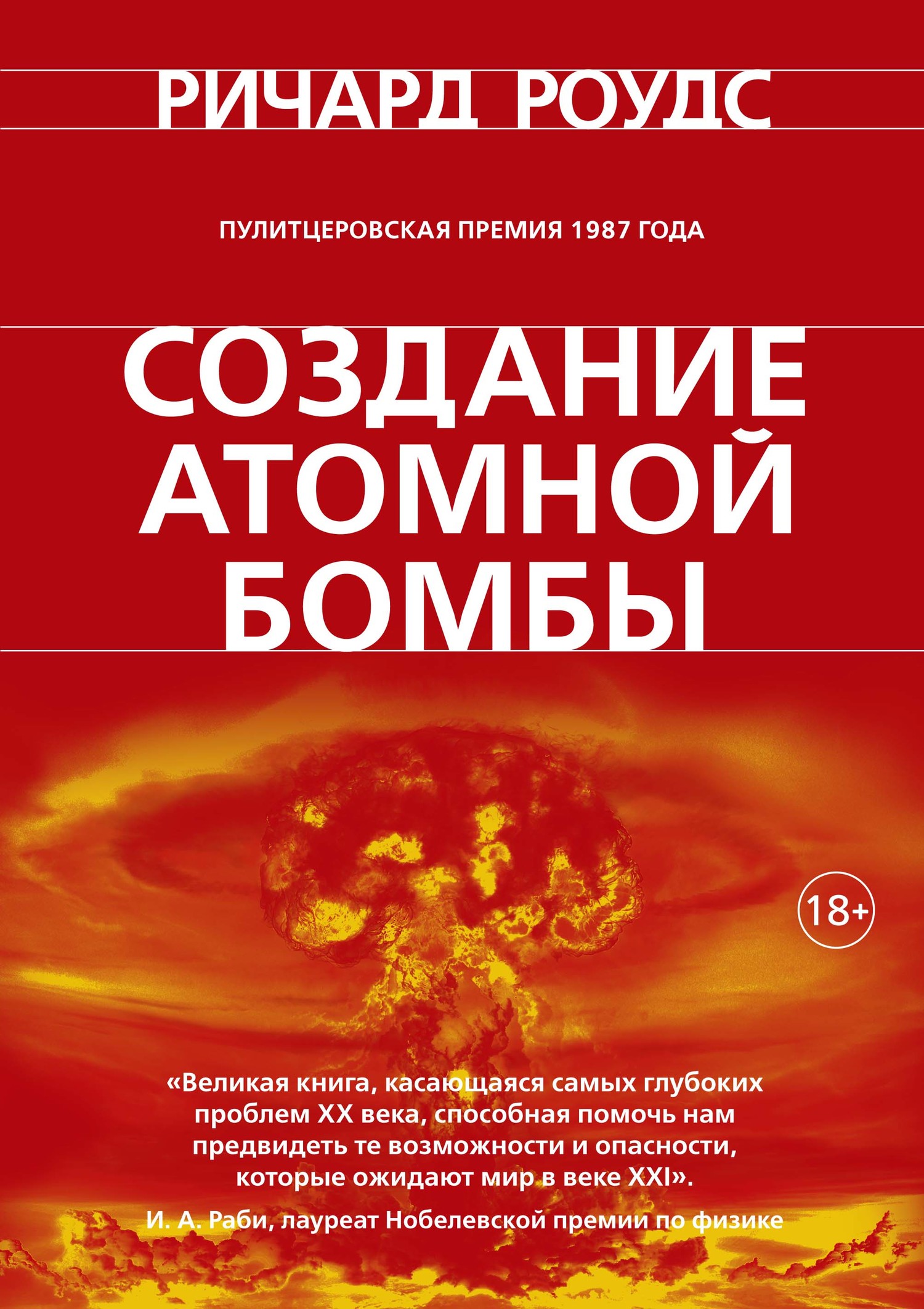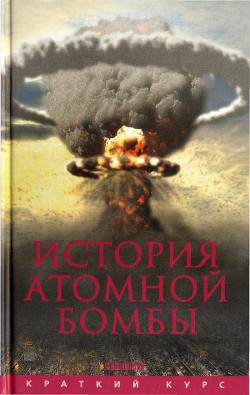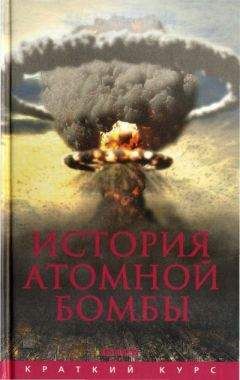Ферми может ожидать разговора со Стокгольмом.
Ферми, немедленно проснувшийся после того, как жена сообщила ему эту новость, оценил вероятность того, что вечерний звонок будет извещением о присуждении ему Нобелевской премии, в 90 %. Как обычно, до этого он строил свои планы с осторожностью, не рассчитывая на премию. Сразу после Нового года супруги Ферми собирались уехать в Соединенные Штаты. Официально считалось, что Ферми едет на семь месяцев читать лекции в Колумбийском университете, а затем вернется в Италию. Для пребывания в США длительностью более шести месяцев требовалась не туристская, а иммиграционная виза, а поскольку Ферми был ученым, он и его родные могли получить такую визу сверх квоты, выделенной для итальянцев. Уловка с курсом лекций была придумана, чтобы уклониться от суровых ограничений: гражданам Италии, уезжающим из страны навсегда, разрешалось вывозить с собой только средства, эквивалентные пятидесяти долларам. Но осуществление этого плана требовало осторожности. Чтобы не возбуждать подозрений, Ферми не могли продать свое имущество или снять все деньги со своего сберегательного счета. Поэтому денежная часть Нобелевской премии была бы для них настоящим даром небес.
Тем временем они осторожно вкладывали средства в то, что Ферми называл «приданым беженца». У Лауры была новая бобровая шуба, а в самый день звонка из Стокгольма они отправились покупать дорогие часы, чтобы отвлечься от ожидания. Покупать бриллианты, которые нужно было регистрировать, они не решались.
Около шести часов зазвонил телефон. Звонила Джинестра Амальди, которая спрашивала, получили ли они уже какие-нибудь известия. Она сообщила, что все собрались у Амальди и ждут звонка. Ферми включили шестичасовые новости. Лаура надолго запомнила их содержание:
Холодный, отчетливый, безжалостный голос диктора зачитывал второй пакет расистских законов. Новые законы ограничивали гражданские права евреев и занятия, к которым они допускались. Дети евреев исключались из государственных школ. Евреи-учителя увольнялись. Евреи-адвокаты, врачи и другие специалисты могли практиковать лишь в среде еврейских клиентов. Многие еврейские фирмы закрывались. «Арийской» прислуге не разрешалось работать у евреев или жить в их домах. Евреи лишались всех гражданских прав, а их паспорта отбирались [1108] [1109].
К тому времени в паспортах евреев уже были поставлены особые отметки. Ферми удалось сохранить паспорт жены «чистым».
Они, вероятно, услышали и новости из Германии: накануне ночью там прошел грандиозный погром, получивший название Kristallnacht, «Хрустальная ночь». 7 ноября семнадцатилетний студент из польских евреев, мстивший за бесчеловечное обращение с его родителями в Польше [1110], совершил покушение на Эрнста фом Рата, третьего секретаря посольства Германии в Париже. 9 ноября фом Рат умер, и его смерть послужила сигналом к началу всеобщего антисемитского погрома. Разъяренные толпы поджигали синагоги, громили предприятия и магазины, вытаскивали еврейские семьи из домов и избивали их на улицах. Погибло не менее ста человек. Количество зеркального стекла магазинных витрин, разбитого в эту ночь по всему Третьему рейху, составило половину годового объема производства бельгийских фабрик, на которых это стекло изготовлялось. Около тридцати тысяч мужчин-евреев – «особенно богатых» [1111], подчеркивалось в приказе, – были арестованы СС и отправлены в концентрационные лагеря Бухенвальд, Дахау и Заксенхаузен, освободиться из которых они могли, только отдав все свое имущество и немедленно эмигрировав.
Ферми позвонили из Стокгольма. Нобелевская премия была присуждена ему одному за «открытие новых радиоактивных веществ, принадлежащих к целому роду элементов, и совершенному в ходе этой работы открытию селективной способности медленных нейтронов» [1112]. Семья Ферми получила надежные средства к бегству от окружавшего ее безумия.
За несколько дней до приезда Ферми Лиза Мейтнер написала Отто Гану о своих тревогах. «Бо́льшую часть времени я чувствую себя заводной куклой, которая работает в автоматическом режиме, – рассказывала она своему старому другу, – со счастливой улыбкой и без настоящей жизни. По этому Вы можете судить, насколько производительно я работаю. И все же в конечном счете я благодарна за это, потому что это заставляет меня сосредоточиваться, что не всегда легко». Она сожалела, что у Гана снова разыгрался ревматизм, и беспокоилась, что он о себе не заботится; спрашивала о Планке и фон Лауэ, называя их прозвищами – Макс старший и Макс младший, – которые придумали им Ган и Мейтнер; она передавала привет жене Гана Эдите и интересовалась, что он запланировал на Рождество для своего сына. Его работа с ураном казалась ей «действительно очень интересной» [1113]. Она выражала надежду, что вскоре сможет написать еще.
Она жила в маленьком гостиничном номере – места едва хватало, чтобы разобрать чемоданы, – и плохо спала. Ей говорили, что она слишком похудела [1114]. Хуже того, условия в Физическом институте не соответствовали ее ожиданиям. Ее шведская подруга, с которой она познакомилась в Берлине, Ева фон Бар-Бергиус [1115], занимавшаяся физикой и читавшая лекции в Университете Упсалы, помогала ей с обустройством и постепенно сообщала неприятные новости. Манне Сигбан не хотел оставлять Мейтнер у себя. Он жаловался, что у него нет на нее денег; он мог предоставить ей место для работы, но не более того. Фон Бар-Бергиус попыталась получить грант Нобелевского фонда. Однако он не позволял оплачивать оборудование или нанимать ассистентов. Мейтнер винила себя: «Разумеется, я сама во всем виновата; мне нужно было гораздо лучше и гораздо раньше подготовиться к отъезду, по меньшей мере запастись чертежами самых важных приборов [необходимых для работы]» [1116].
Она была сильной женщиной, но сейчас чувствовала себя несчастной и одинокой. Ган отвечал ей сочувственно. В середине месяца она благодарила его за его «прекрасное письмо», но потом ее тон изменился, и она перешла к обвинениям в безразличии: «Что до меня, я иногда подозреваю, что Вы не понимаете моего образа мыслей… Сейчас я совершенно не знаю, заботят ли кого-нибудь мои проблемы и разрешатся ли они когда-нибудь» [1117].
Ган занимался делами Мейтнер наравне со своими собственными. Взяв ее мрачное письмо, он ринулся в налоговое управление, отвечавшее за инвентаризацию ее мебели и прочего имущества, которое должно было быть ей отправлено, и разыграл там, по его собственным словам, «небольшой припадок моего “возбуждения”», после чего «дела пошли несколько лучше» [1118]. Вечером в понедельник 19 декабря он написал об этом Мейтнер из института. Только после этого он перешел к описанию причин, по которым он все еще находился в лаборатории:
Среди всего этого я работаю, сколько могу, – и Штрассман тоже неустанно работает – над урановой активностью… Сейчас почти 11 вечера; в 11:30 вернется Штрассман, и тогда я смогу подумать о том, чтобы идти домой. На самом деле в этих «изотопах радия»