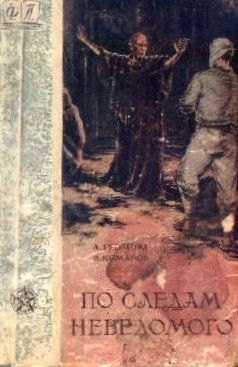Потом, хлопнув меня дружелюбно по плечу, сказал с добродушной насмешкой в голосе:
— Без соли и мясо не смашно... Нихай ужо табе уся прауда — с закрасой — дыстанница!
И тут оказалось, что старый Бондарчук знает не только все прошлое Полесья; он часто видит пророческим оком такие дела и вещи, которым суждено ещё сбыться только через много-много лет. Ему открыты все тайные сроки и времена. Он знает, когда найдётся волшебная шапочка шведского Карла, потерянная им когда-то при бегстве через полесские болота. Ему известно название цветка, который растёт в недоступных дебрях и умеет исцелять все мужицкие беды, как уста возлюбленной исцеляют своими поцелуями смертельные раны. Он знает, что ничто не проходит бесследно «на гетым свеци», и даже та кровожадная вражда и раздоры, которые кипят теперь на земле, найдут себе более разумное применение, когда понадобятся люди, умеющие легко отделять глупые головы от злых сердец. Конечно, у старого Матвея Бондарчука это все выходит и яснее, и проще. Особенно, когда он с ликующей уверенностью произносит:
— По смутку и радость будзя... Будзя як с «Панской охотой». Между двумя громадными камнями «Молчи» и «Встань» лежит бездонная, страшная трясина. Как шелками шитая скатерть, стелются по болоту цветы и травы. Этот пёстрый цветной ковёр известен в Полесье под именем «Панская охота».
Когда-то много лет тому назад богатый польский вельможа пригласил на пир много польских панов. Съехались с жёнами, детьми и со всей челядью. Долго пили, плясали, пировали и решили всей гурьбой устроить охоту на птиц и зверя.
По дороге попался им навстречу древний полесский старичок-липунюшка. Поклонился в пояс панскому поезду и спрашивает: «Разве ясновельможному панству не ведомо, что теперь не время охоты, что птица как раз выводит птенцов, а у зверей во чреве ещё зверёныши?» «Гетто, быдло![73]» — захохотали в ответ паны, и из уст их посыпались нечестивые речи и проклятия.
Вдруг под землёй раздался сердитый гул. Боязливо зачирикали птицы на деревьях, и в страхе заметалась живая тварь. Откуда-то донёсся звон похоронных колоколов. Над камнем «Молчи» появилась тёмная исполинская рука, и чей-то грозный голос сказал повелительно: «Молчи!» И мгновенно земля разверзлась под панами и поглотила их всех до одного. Потом на этом месте образовалась трясина, вся усеянная цветами. И цветы эти выросли на трясине в том самом порядке, как двигалась панская охота, то есть как ехали гости и вся свита.
Впереди трубачи с красными шарфами и флагами превратились в пурпурные тюльпаны. За ними сонщики в серых куртках с развевающимися серыми лентами рассыпались болотной спесивкой.
Важные паны в красных бархатных кунтушах с темно-синей шнуровкой на груди закачались пёстрыми ирисами на болоте.
Рядом с ними жёлтые ирисы с крапинками, похожими на ожерелья, — это вельможи с золотыми бляхами на шее.
А над тем местом, где провалились красавицы панны в нескромных нарядах, дразнивших глаз чересчур прозрачной наготой, плавают нежные лилии с широкими листьями, от которых струится одуряющий запах.
Так покарало небо панов за то, что они забыли старую полесскую правду... Но заклятию этому наступит конец.
С камня «Встань» раздастся снова повелительный голос и возвестит громко и радостно: «Встань!» Зашевелится бархатное покрывало болот. Заколдованные цветы и листья начнут разрастаться все выше и выше. С ясного неба прольётся чистая слеза всепрощения, и пёстрый ковёр превратится в живую панскую охоту.
Только это будут совсем другие люди. Весело засмеются мужчины, ласковые красавицы панны скромно поднимут свои светлые глаза, радостно зафыркают кони[74]...
Да, это будут совсем другие люди. И случится это не тёмной ночью, а под радостное пение птиц, при блеске яркого дня. Вместе с «Панской охотой» встанут из глубины столетий все те, кто приносил себя в жертву во искупление минувших грехов и за счастье будущего. Все те, широкая грудь которых покрыта славными рубцами... С вершины таинственного камня «Встань» загремят громкие трубы, возвещая час воскресения на земле старой полесской правды...
Светало. Гулко грохотали удары затихающей канонады. Кругом над болотными травами дымились белые испарения. Бесследно угасали последние звезды. Зашевелились проснувшиеся солдаты. У меня слипались глаза...
А старый Матвей все продолжал рассказывать о страшных войнах, о злых вампирах, о грозных, таинственных предметах. И всего больше о крохотном старичке-липунюшке, который знает все тайные слова. Раскроет липунюшка свои вещие уста и станет заклинать всех усопших полещуков, чтобы поднялись они со дна полесских болот, наточили заржавленные топоры... топоры... обора... повесюць... пана повесюць — три дня перед им шапку знимай...
Убаюканный речью старика, я с трудом разбираюсь в его словах... Путаются обрывки отдельных мыслей и фраз... Замечаю: чем ярче разгорается солнце, тем реже паны в его рассказах и звоны стальных мечей, тем чаще говорит Бондарчук о заржавленных топорах... топоры... топоры... кровавые реки... Хут... полесская правда... Как далеко это от орудий, аэропланов, культуры и европейской дипломатии!.. Как связать воедино старую полесскую правду и цеппелины над цистернами в Жабинке?..
А впрочем, что знают о правде дикие лесные полещуки?.. Только то, что сказало им солнце и болотные травы, полесские чайки и лесные звери и что, как эхо, повторяют за ними их простые охотничьи сердца...
Опять нас гонят. Лязгают зарядные ящики, как груды мёртвых костей. Снаряды режут мокрую тьму. Хриплые вопли, как пена, шипят над океаном человеческой муки.
Вторые сутки льёт дождь. Беженцы сотнями лежат вдоль дороги. Ослепшими от усталости глазами они равнодушно следят за катящимся потоком возов. Вцепившись руками в гриву, ездовые с трудом сидят на конях. Всюду заторы. Пушки бешено хлещут. Хоть бы пять минут побыть в тишине, без раздражающего грохота пушек. Без лязга зарядных ящиков, без матерщины и воплей.
Холодно. Дождь леденящими струями забирается под рубашку, и мечта о пристанище и тепле мучает ещё неотвязнее, чем голод. Целый день плетёмся по вязким лесным дорогам. Неужели опять ночевать в лесу под холодным дождём?
Впиваясь глазами в темноту, иду, пошатываясь, как пьяный. Ловлю машинально ухом хлюпанье солдатских сапог, железный грохот зарядных ящиков и надрывное сопенье лошадей. Почему-то это сопенье особенно мучительно. Каждый удар кнута я ощущаю собственными боками ...
Вероятно, я долго спал на ходу. Шрапнели где-то далеко в стороне буравят темноту. Дождь перестал, но холодно, и тело по-прежнему зудит.
— Стой!! Стой! — перекатывается по лесу зычная команда. Базунов, наклонившись над картой, которую держат два денщика, нервно водит по карте фонарём и сердито ругается:
— Черт их знает, этих прохвостов! Нарочно такую стоянку выдумали, которой на карте нет. Что я, контрабандист или гончая собака? Откуда мне знать, какие тут деревни в лесу! Ординарцы! Раздобудьте какого-нибудь пана. Хоть из-под земли добудьте!..
* * *
Жалкая деревушка. Сотни людей летят со всех ног на заветные огоньки.
— Поставить часовых у дверей! Никого не пускать! — распоряжается Кузнецов.
И мы вваливаемся в крохотную лесную сторожку, где застаём уже двух офицеров, полкового монаха и сторожа с кучей детей.
* * *
Проснулся я от сильного стука в окошко. Кто-то злым голосом кричал на весь лес:
— Эй, хозяин! Купцы пришли. Пропалые вещи покупать!
Дверь распахнулась, и в комнату заглянули солдаты. Кто-то чиркнул спичкой, зажёг цигарку и, делая вид, что не видит офицеров, объявил повелительно и грозно:
— Ночевать будем.
— Тесно здесь, братцы, — отозвался монах.
— Солдат не дрова — в печку не сунешь. А ты, батя, не сумлевайся: пол да серед — сам отмерит, печь да палати — силом заберём!..
И он внушительно щёлкнул затвором винтовки и крикнул хозяину:
— Ну, выкидывайся, пан, со всем барахлом!
— Хоца б дзетей пожалели, — взмолился хозяин.
— Дети не бархат: их не украдут, — продолжал распоряжаться тот же речистый солдат. — А ты, слышь-ка, хозяин, хлебца урежь. Да побольше. Да того не забудь, чего в кашу кладут...
Хозяин, кряхтя, вышел из сторожки, подталкивая сонных детишек и ворча сквозь зубы:
— Ну и людзи!..
— Давно забыли, когда людьми были, — огрызнулся солдат. И насмешливо протянул: — Как есть душегубы: хлеб да питьё под мостом берём, совесть да крест в наём отдаём...
Офицеры спали или делали вид, что спят.
Идём по направлению к Молодечно. Нашу дивизию перебрасывают на Северо-Западный фронт. Нет больше ни беженцев, ни болот. Навстречу попадаются раненые — пешком и в телегах. Лица хмурые, бледные.
* * *
Варынки, Васюки, Гарасюки... В воздухе пахнет сивушным маслом и спиртом. Кругом винокуренные заводы. Миллионами вёдер водку выпускают в пруды и канавы. Солдаты черпают из канав эту грязную жижу и фильтруют её на масках противогазов. Или, припав к грязной луже, пьют до озверения, до смерти. Земля вся пропитана спиртом. Во многих местах достаточно сделать ямку, копнуть каблуком в песке, чтобы она наполнилась спиртом. Пьяные полки и дивизии превращаются в банды мародёров и на всем пути устраивают грабежи и погромы. Особенно буйствуют казаки. Не щадя ни пола, ни возраста, они обирают до нитки все деревни и превращают в развалины еврейские местечки.
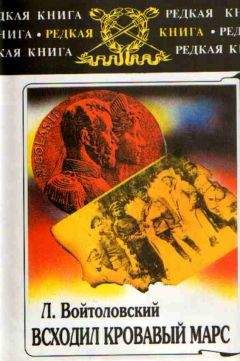

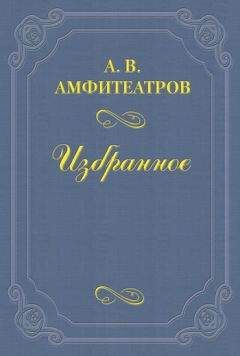
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)