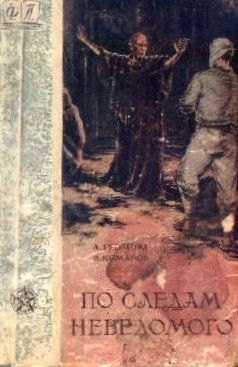Старый Бондарчук знает много таких преданий, и я обрадовался случаю вступить с ним в беседу.
Боязливо раскинув руки, Бондарчук со вниманием долго присматривался к мелькающим теням на земле и вдруг выхватил нож из-за голенища.
— Что ты делаешь? — удивился я. — Разве ты не слыхал о летающих цеппелинах?
Старик лениво вскидывает глаза на меня и говорит вялым голосом:
— По-вашему так, а по-нашему — Хут!
— Что за Хут такой? Ты объясни, — пристаю я к нему.
И на своём болотно-дремучем языке он длинно и живописно рассказывает мне мрачную историю. Лунной ночью, осыпанная золотом и алмазами первобытных слов, эта дикая полесская сказка показалась мне древним сокровищем, мудрой тайной, затонувшей в Пинских болотах. Но мои прозаические чернила, я знаю, бесследно смыли с неё и дикий болотный аромат, и яркую болотную роспись. Потому что в памяти моей сохранилось только простое — «звычайное» только — содержание этой причудливой сказки.
— Давно гето дзеилося, — начал торжественно старик. — Ох, давно... От старых людзей я чув, а стары людзи лгаць не будут... Значитца праувда была... Старые полещуки давным-давно уже знали, что существует такой таинственный зверь на свете — по имени Хут. Зверь тот не водится ни в лесах, ни в болотной трясине, а родится от злой человеческой воли. Надо взять чёрного петуха, семь лет держать его в тёмной железной клетке и кормить горячей человеческой кровью. Тогда на восьмой год он снесёт яйцо. Яйцо это надо две недели держать под левой рукой — и тогда ровно в полдень из него вылупится цыплёнок, похожий на ласку[69]. А ночью у ласки отпадут ноги, вырастут исполинские крылья, и она с шумом и воем взлетит к небесам в виде страшного зверя. Зверь этот и есть — Хут! Он обладает заколдованный силой. Стоит человеку, взрастившему Хута, приказать — и последний принесёт ему столько золота, сколько человек пожелает. Вот для того-то и летает Хут по ночам и собирает с земли все золото, омытое человеческими слезами. Чем больше золота приносит Хут своему господину, тем бледней и печальней становится его несчастный владыка, потому что Хут питается кровью создавшего его человека.
— А разве нельзя его застрелить? — задал я вопрос старику.
— Нет! Хут живёт только ночью, когда у него отрастают крылья. Днём он, как червь, уходит в землю. Когда он с воем летит по небу, то на землю ложатся от него беглые тени. Если заметить такую тень и трижды проткнуть её ножом, каждый раз приговаривая: раз! раз! раз! — только, Боже избави, сказать: раз! два! три! — то злое могущество Хута тут же и прекратится, и он рухнет на землю мёртвой падалью.
— Значит, по-твоему, по ночам не аэропланы, а Хут летает?
— Хут! — уверенно подтвердил полещук...
Низкий скрипучий голос одиноко и жутко звучит в серебряной полумгле. Вдали блестят молниями и извергают грохочущее пламя пушки, наполняя жуткой тревогой сердце.
— Ты, значит, хотел проткнуть его тень, когда выхватил нож из сапога? — возобновляю я прерванную беседу.
Но старик молчит. Он кажется погруженным в глубокую думу. Солдаты, накурившись до одури, засыпают под мерный грохот орудий. Я долго подлаживаюсь к старику, пока мне наконец удаётся опять втянуть его в разговор.
Много странных вещей узнал я от старого Бондарчука в эту летнюю ночь. Его седая голова оказалась туго набитой всякими дивными историями. Он рассказал мне о кровавой реке, на берегах которой и поныне охотятся праведные полешуки, о двух таинственных камнях «Молчи» и «Встань», о поющих цветах, о семи отважных кирасирах, о празднике сатаны, об Изяславе Чёрном. Тут же открыл он мне тайну многих названий многих полесских деревень и поместий. Это были седые, древние знания, которые бережно хранила под ржавыми замками звериная память Бондарчука.
То, что поведал мне старый Бондарчук, я ни за что не осмелюсь назвать ни суеверием, ни невежеством. Только раз, поддавшись интеллигентскому скептицизму, я спросил с недоверием в голосе:
— Отчего же в учёных книжках ничего не пишут про это?
— Га! — усмехнулся саркастически Бондарчук. — У панов вума дуже много, да только ей николи дома ни живець.
И я в смущении спасовал со всей нашей хвалёной учёностью и большими познаниями. В самом деле, по сравнению в нами, усталыми интеллигентами, в хаосе ночных отступлений и галицийских «побед» растерявшими добрую половину своего культурного багажа, какой гармонией, какой неукротимой продуманностью дышала эта грубая, дремучая, крепко сколоченная полесская правда! И кто назовёт эту стройную, цельную систему, обнимающую все царство человеческой мысли, суеверием или вздором? Разве не больше в ней и широты понимания, и мудрой ясности духа, и чуткой восприимчивости к красоте, чем в книжной натурфилософии Шеллинга или в заново подчищенной мифологии греков?..
После продолжительного молчания я начал осторожно беседу. Возле нас валялись толстые сосны. Кругом торчали свежие пни и далеко виднелся срубленный лес. Я сказал, желая подкупить старика:
— Эх, жалко! Уж такого леса больше не будет. И звери все разбегутся из этих мест.
Старик упорно смотрел на небо, как будто мысли его все ещё продолжали следить за Хутом. И потом произнёс с печальным вздохом:
— Зверина что?.. Всяка-всяка зверина — какая только зверина есть на земле — у нас тут. Левов одних няма. Лисы есть, дики козы есть, лоси; волки. Волков, ох, сколько есть — бяда! Зимой шастают штук по десяць. А что летом?! Козы, гуси — бяда как душат... Птицы дикой — только и управляйся. Стреляй да стреляй... Бекаса, дуппельта, паровки, куропатки, тетеревья... Изводу нет. Пройдёшь два шага — выводок. Пройдёшь три шага — выводок. На всю Рассею только у нас и есть тетеревья... Весной как станут пеять — вот когда их стрелять. А осенью мы шост делаем. Зверина у нас всяка-всяка есть! Хватит... Кривава-река пересох-не — вот что! — закончил грустно старик.
— Не пойму я тебя, Матвей. Я ведь тёмный, «звычайный» человек... Ты мне толком расскажи, что за Кривава-река?
И старик рассказал.
В каждой лесной чаще есть ручьи, покрытые пятнами крови. Обыкновенные люди думают, что это ржавчина или железо. Они не знают, что вся кровь, вытекающая из жил убитых зверей и птиц, собирается в одно место — в одну большую кровавую реку. Над этой рекой веют, как усыпляющее опахало, крылья убитых птиц, и на её прохладных берегах продолжают вечно охотиться души праведных охотников.
А праведный охотник — это тот, кто никогда не убивал тетеревиной самки на яйцах, не истреблял зайчихи с зайчатами во чреве, не крал яиц из гнёзда, кто не застрелил во всю свою жизнь ни единого голубя и перебил множество чаек.
Потому что чайка — это птица, подпавшая сатане. Она не улетает на зиму, как другие птицы, в тёплые края, а сквозь болотные щели проваливается в адскую тьму. По наущению ада чайки вечно кружатся над самыми гиблыми местами, а кто допустит обморочить себя её жалобным писком, тому не миновать коварных лап сатаны. Ежегодно за три дня до Петра и Павла, 26 июня, когда на болотах созревает пьяная ягода[70], которая опутывает человеческое сердце страшной хмельной отравой, сатана, закрывшись туманом болотных испарений, выходит на поверхность земли и, окружённый подземной гнилью и нечистью, справляет свадебный пир. Человек не должен видеть тех мерзостей, которые творятся в эту ночь в полесских болотах. Иначе до конца дней его будет трясти лихорадочная дрожь, и он никогда уж не сможет освободиться от страшных видений.
На рассвете сатане подносят напиток из пьяных ягод, настоянных на крови младенца или старого зубра, и он мгновенно проваливается в болото. А чайки, потерявшие сатану, пронзительно стонут и растерянно мечутся над трясиной.
На чаек не охотятся, их просто убивают проплеванной дробью, и убийство каждой чайки является победой над кознями сатаны. Кровь убитой чайки никогда не попадает в кровавую реку, а вливается в гнилое болото — туда, где растут самые ядовитые травы.
Кто всегда смотрел на охоту как на честный поединок, кто не растаптывал безжалостно звериных жизней и честно ставил западни и силки, кто не убил ни единой серны, тот и после смерти будет тешить себя охотой на берегах Кривавы-реки. Но горе бесчестному охотнику! Даже попав после смерти в охотничий рай, он никогда не узнает больше сладость меткого выстрела и будет предметом всеобщего презрения в загробном мире...
Поздно. Луна как огромный серебряный цветок медленно катится по небу. Тихо шевелятся бледные губы старика, и, точно от заклятий, из-под болотных кочек, из глубоких трясин встают давно истлевшие кости полесских богатырей, и воздух вокруг меня гремит их бранными подвигами. Под грохот орудий сказка за сказкой развёртывается длинный волшебный свиток с заколдованными словами, тайна которых хорошо известна старому Бондарчуку. Старый Матвей оказался не только знатоком загробного мира, но и превосходным историком Полесья. Звуча и сияя, ожили древние рыцари Литвы и Польши.
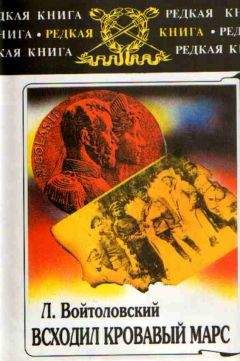

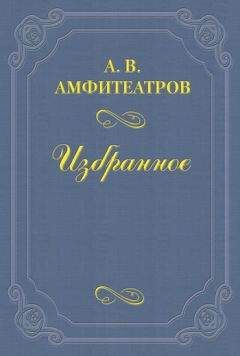
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)