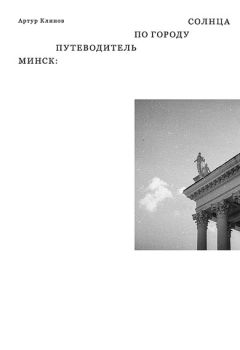или, мягко говоря, в существование какого-либо способа выражения, который передал бы всю сложность этой динамики.
Убежденность в присутствии какого-то скрытого единства, стоящего за всеми совпадениями и связями, заставляет продолжать поиски, но тот факт, что расследование никогда не придет к окончательной развязке, подрывает эту первоначальную уверенность.
Таким образом, подозрение о том, что под лежащей на поверхности путаницей все связано в систему, в последних формах культуры заговора вступает в противоречие со структурным отрицанием этого вывода.
* * *
Творчество Дона Делило и, в особенности, его последний роман «Подземный мир», представляют собой убедительный пример скрытого сдвига в стиле и функциях массовой паранойи по направлению к неопределенному головокружению от интерпретаций. Делилло долгое время называли «главным шаманом параноидальной школы в художественной литературе», лучшим представителем постмодернистской конспирологической литературы. В своих романах писатель рисует проникнутый атмосферой заговора послевоенный период в Америке, когда, по утверждению Делилло, «историю в американской жизни заменила паранойя».
Разделение между тем, что было «до», и тем, что наступило «после», не сразу признается персонажами «Подземного мира», но стратегически проецируется в прошлое сквозь призму ностальгии. Роман не вызывает ностальгию по 1950-м годам в духе Нормана Рокуэлла, который был высмеян в главе про желе «Jell-О»: этот образ увязывает семейную невинность пригорода с подпирающей его военной экономикой. Роман Делилло скорее вызывает в памяти более раннюю и более традиционную форму паранойи, которая ретроспективно может показаться до странности успокаивающей.
Так, во время посещения ядерного полигона в Казахстане, Ник Шей чувствует «что-то вроде ностальгии» по брендам 1950-х годов, оставшихся на полке реконструированного американского дома, предназначенного для разрушения. Эти чувства вызваны не столько тоской по «безопасной» домашней жизни 1950-х, сколько тоской по паранойе атомной эпохи. Навязчивая привязанность к убийственным подробностям может показаться почти трогательной, когда приватизация публичной ответственности, параноидально глубокий интерес государства к повседневной жизни собственных граждан (пусть и с неблаговидными намерениями) начинает исчезать.
Когда герои встречаются вновь сорок лет спустя, художница Клара Сакс делится своими подозрениями с Ником, который когда-то был ее любовником, говоря, что «в какой-то момент жизнь [приобрела] нереальный поворот», и тем самым отражая долгое пристальное внимание Делилло к случившейся после 1960-х годов «аберрацией в глубине реальности». Затем Сакс рассказывает, как в 1960-х, будучи еще совсем юной особой, она часто смотрела на загадочные огни в небе и хотела верить, что эго были следы бомбардировщиков В-52 с ядерным грузом на борту:
«Война порядком пугала меня, но эти огни, должна тебе сказать, эти огни вызывали сложное чувство. Эти самолеты в состоянии постоянной готовности, которые без конца, ты же знаешь, прочесывали советские границы, и я помню, как сидела, найдя пристанище в какой-то пещере в пустыне, слегка трясясь и переживая какой-то благоговейный страх, ощущение тайны, опасности и красоты, в которое погружается засыпающий ребенок».
Вспоминая об этом уже после «холодной войны» (теперь художница делает из этих списанных самолетов предметы искусства), она, похоже, находит свои прошлые страхи парадоксально привлекательными:
«Теперь, когда эта власть разбилась вдребезги или развалилась и когда даже тогдашние советские границы перестали существовать в прежнем виде, я думаю, мы понимаем, мы оглядываемся назад, мы видим самих себя яснее, и их тоже. Власть значила что-то тридцать, сорок лет назад. Она была неколебимой, она была концентрированной, она была ощутимой. В ней чувствовалось величие, опасность, страх, все такое. И она держала нас вместе, Советы и нас. Может, на ней держался весь мир. Можно было все измерить. Можно было измерить надежду и можно было измерить разрушение. Не то что бы я хочу вернуть все назад. Это позади, оно и к лучшему. Но факт остается фактом».
В эпоху, когда власть стала неустойчивой, рассредоточенной и неощутимой, Клара с нежностью отзывается о вещах, дававших уверенность сорок лет назад, хотя и признает все несчастье жизни, проходившей в таком страхе. Марвин Ланди, коллекционер бейсбольных редкостей, точно так же утверждает, что «„холодная война“ — твой друг»:
«Она единственное, что существует постоянно. Она настоящая, она надежная. Ведь худшие твои кошмары начинаются как раз тогда, когда напряжению и соперничеству приходит конец. Вся мощь и устрашение государства проникнут в твою кровь».
Эти герои демонстрируют теперь уже распространенную тоску не по ограничениям культуры 1950-х, основанной на политике сдерживания, но, скорее, по более понятным страхам времен «холодной войны». На фоне небезопасной паранойи, которую Делилло представляет как следствие убийства Кеннеди, безопасная паранойя времен «холодной войны» приобретает успокаивающую устойчивость.
* * *
Если прежние романы Делилло придавали форму повествования меняющейся, разворачивающейся спиралью паранойе «эпохи заговоров, эпохи связей, звеньев одной цепи, тайных взаимосвязей», то в «Подземном мире» виден контур более раннего представления о паранойе как источнике стабильности.
Страх атомной эпохи изображается в романе как парадоксальная форма безопасности, психическая стратегия для удержания устойчивого ощущения индивидуальной и национальной идентичности. Так, мы видим, как на первом бейсбольном матче сезона Дж. Эдгар Гувер размышляет о том, что форма национального согласия возникает не столько в результате национального единства, сколько обязана своим появлением ясному и понятному врагу:
«Эдгар смотрит на лица людей вокруг, открытые и полные надежды. Он хочет ощутить близость и сродство, присущие соотечественникам. Все эти люди, сплоченные языком, климатом, народными песнями, пищей, которую они едят на завтрак, шутками, которые они рассказывают, машинами, которые они водят, еще никогда не имели столько общего, как сейчас, попав в канаву разрушения».
При таком взгляде на «холодную войну» паранойя «заменяет религиозную веру» с «радиоактивностью, властью альфа-частиц и порождающих их всезнающих систем, бесконечными совпадающими связями». По сути, паранойя становится клеем, скрепляющим нацию.
В «Подземном мире» речь идет о том, что паранойя — это не просто стратегическое убеждение (стихийно возникшее в народе или цинично навязанное ему сверху), укрепляющее чувство национального единства как раз в тот момент, когда оно попадает под внутреннюю угрозу из-за краха традиционной гегемонии белых мужчин, представляющих средний класс.
В романе Делилло немало страниц отводится описанию ущерба, который ядерная эпоха нанесла психике человека, «сотням заговоров, уходящим глубоко в подполье, чтобы размножаться и расползаться во все стороны». Хотя изображение паранойи эпохи «холодной войны» и пронизано ностальгией, автор признает, что менталитет того времени был (в лучшем случае) защитным механизмом, который дорого обошелся и людям, и государству.
В обостренном наркотиком состоянии паранойи на вечеринке в честь «наконечника бомбы» в середине 1970-х Мэтт Шей слышит, как его коллега, изображая мультяшный прусский акцент, говорит: «Желание государства воплотить свои огромные фантазии никогда нельзя переоценить», но позже, когда Мэтт смотрит на фотографию Никсона, он задумывается, «заботилось ли