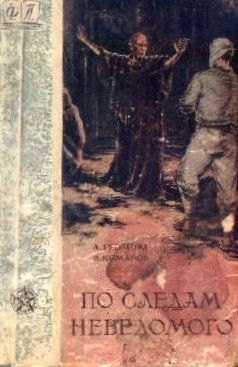Со звоном и грохотом скатывались с моста телеги, и люди вливались в водоворот, гудевший на шоссе. Но уже на третьей версте от Вислы все эти грохочущие волны схлынули куда-то в сторону и исчезли. Мы нагнали небольшой пехотный отряд под командой прапорщика. От него мы узнали, что бой тянется четвёртые сутки. На второй день немцы отошли за вторую линию окопов. Пропустив нашу дивизию, которая первая ринулась вперёд за уходящим противником, неприятель открыл жестокий огонь. Дивизия оказалась окружённой со всех сторон и прижатой вплотную к Висле. Бросились ей на помощь. Но мост, подожжённый снарядами противника, пылал. Кавалерия, много раз пытавшаяся перейти через мост, не выдерживала огня и отступала с большим уроном. Кромский полк, дравшийся впереди всех, дрогнул и начал подаваться назад. Тогда противник, осыпаемый огнём наших батарей, пошёл в атаку. Бывшие поблизости части приняли бой, но не выдержали и отступили. Наперерез отступающим бросился Сурский полк. Тогда повернули и кромцы, и противник был опрокинут.
Сейчас идёт бой вовсю. Все кругом точно растоптано и смято каким-то бешеным ураганом. Всюду валяются символы войны: сотни пробитых пряжек, тысячи картечных осколков, груды жестянок, гильз и патронов. Развороченные снарядами окопы зияют свежими ранами земли. По бокам шоссе множество холмиков с торчащими наружу ногами и руками. Судорожно скрюченные пальцы измазаны запёкшейся кровью. А солнце горит и сверкает на медных пряжках, на банках из-под консервов, на патронных гильзах и матовых обоймах. Вся земля усеяна белыми тряпками и длинными марлевыми бинтами, пропитанными свежей кровью. Тут и там валяются изуродованные трупы неубранных австрийцев. Навстречу нам тянутся сотни раненых. Понурые, усталые, с белыми перевязками, сквозь которые алыми пятнами проступает свежая кровь.
Подхожу к одному, другому, спрашиваю:
— Не видали, где тут парки стоят?
— Никак нет.
— А далеко до позиции?
— Беретов пять-шесть будет.
Сделали вёрст восемь. Вот мёртвые мадьяры, похожие теперь на японцев. У всех трупов вывороченные карманы: все обшарены и обобраны санитарами. Валяются кучи австрийских ранцев и сотни неприятельских ружей, расставленных широкими пирамидами по краям шоссе. Длинными змеями извиваются брошенные пулемётные ленты.
— Страшно? — спрашиваю я Коновалова.
— Ни, я не жалкую, що пийшов.
Без конца бредут раненые. Спрашиваю:
— Далеко до позиции?
— Беретов пять-шесть будет.
— А как дела?
— Там, за рекой, ваше благородие, что народу побитого лежит!.. — возбуждённо заявляет один. — Нашего брата, как песку, а ихнего — ещё больше; как грязи!.. Ой, и бьют же его!..
Усталые и голодные, мы сворачиваем с шоссе и забираемся в лес. Издали доносятся чьи-то хриплые стоны. Подхожу ближе: срезанные снарядами деревья придавили группу солдат; они умирают в страшных мучениях. Головы измазаны кровью, руки и ноги перебиты, искалечены. С ними возятся в ожидании санитарной двуколки несколько пехотинцев и казак-ординарец.
— Навоевались! Эх, пальнуть бы раз из винтовки! Чего зря людям мучиться? Видишь, сами смерть кличут, — угрюмо говорит пехотинец.
— Разрядить недолго, — вздыхает казак, — да как бы беды не нажить. Им-то, конечно, чего зря томиться?
Снова идём по шоссе.
Вечереет. Накрапывает дождик. По полю рыщут санитары с носилками. Солдаты раскапывают землю и вытаскивают ящики с патронами, наскоро зарытые туда отступившими австрийцами. Десятки трупов. Множество подстреленных лошадей. Неожиданно слышу радостный возглас Коновалова:
— Доктор Костров идут!
— Ой, ёлки зеленые! Как вы сюда попали?! — кричит Валентин Михайлович.
Оказывается, Пахну Волю мы давно миновали. Неприятель только что отступил, и парку дано предписание перейти на четыре версты вперёд. Валентин Михайлович с воодушевлением рассказывает о боях, о наших победах. «Висла долго была красной от крови», — повторяет он много раз. В нашей бригаде есть много пострадавших. Ранены Яблонский, Грогин, Гудим-Левкович. Убит разрывной пулей поручик Терентьев, молодой талантливый композитор. Валентин Михайлович вытаскивает из кармана разряженную разрывную пулю и показывает мне цилиндрическую капсулу, наполненную гремучей ртутью.
— Такая белая, красивая штучка, — философствует Костров, — а хватит по башке — хуже Господа Бога поразить может.
Вдруг он останавливается среди дороги, смотрит пристально мне в лицо и произносит с печальной укоризной:
— Из Люблина едете и не могли догадаться...
— Е! — радостно отзывается Коновалов. — Усэ е: и водка, и колбаса. На пункте.
— Да ну? Эх родина — великое дело!.. Отпразднуем победу над немцем! Уконтропим Возвращаюсь в Люблин. Сижу в Новой Александрии в ожидании поезда. Каждый час отходят в Люблин поезда-теплушки. Каждый увозит тысячи раненых. Уже больше шести часов сижу на платформе. Давно перевалило за полночь, а санитары все приносят раненых. Платформа, вокзал, станционные комнаты, эвакуационный двор, все пути завалены ранеными, которые тихо стонут и терпеливо дожидаются очереди. Каждый поезд увозит тысячи, а взамен увезённых приходят с позиции сотни и тысячи новых — усталые, изнурённые, землисто-серые. Умоляюще смотрят они на санитаров и докторов. Во втором часу ночи над нами сжалились и пустили в почтовый вагон. Кроме пяти почтовых чиновников в вагоне находились несколько офицеров, врачей и священник.
Лица у всех неприветливые и злые. Фрондируют, ругают начальство и русские порядки. Всех больше горячится доктор-грузин.
— Скажите, это порядок? — выкрикивает он со своим гортанным акцентом. — Это порядок, когда у нас триста санитаров, а кухни походной нет! Я говорю: дайте мне кухню, а они говорят: на триста человек закон не позволяет. Это закон? Такой закон надо сжечь, а того, кто исполняет этот закон, — повесить!
— Знаете, а я вот читал... — пытается вставить старший почтовый чиновник.
— Где вы читали? В газетах? Не верю газетам, — азартно отмахивается доктор. — Пишут в газетах, что немцы голодают. Не-эт! Немцы не голодают! У каждого пленного в сумке — прессованные сливки, размешал в горячей воде — вот тебе молочный суп. У каждого немца — грибы сушёные, разные консервы. Это мы голодаем! У других на сучок в глазу показываем, а у себя бревна не замечаем. А какая у нас медицина? Аспирин — такое дешёвое... вещество — и того нет. Если бы мне пятьсот рублей в месяц предложили в мирное время, я лучше сдохну, как собака, а военным доктором не пойду.
— А я вот читал... — робко настаивает почтовый чиновник, — многие офицеры пишут...
— Где вы там читали? — горячится грузин.
— Да знаете, в дороге скучно, делать нечего, и вот читаю открытые письма господ офицеров...
— Вы видите, какие порядки?! — вскрикивает доктор. — За это ещё Гоголь ругал Госсию... как он там? Почтовый чиновник Шпиков...
— Шпекин, — вежливо поправляет московский прапорщик. По мирному времени это скромный буржуа: у него фабрика обоев. Сопровождал эвакуированных пленных в Сибирь. Теперь направляется в четвёртую армию за назначением. На лице его полное внимание, но глаза лукаво поблёскивают. Время от времени он вставляет ядовитые реплики:
— Гусскому солдату по фунту хлеба в сутки дают. Кабы он свой не прикупал, давно бы вся армия с голоду околела.
— И хлеб на свои деньги, — пылко подхватывает грузин, — и сапоги на свои деньги. Газве можно в казённых сапогах такие переходы делать?
Мой сосед, поручик с наивными голубыми глазами, произносит с суровой сосредоточенностью:
— А у меня брата убило... На моих глазах... В одном окопе сидели... Осколком в живот!.. Как вилами проткнуло. Слышу: кричит не своим голосом. Смотрю: кровь меж пальцами хлещет... За живот держится. На моих глазах умер. А я два дня после этого пробыл в окопе и стрелял. И Вася тут же. Вот уж которая неделя, а все забыть не могу...
Артиллерийский офицер все время тихо переговаривается со священником. До меня долетают обрывки этой беседы.
— В армии теперь Пуришкевич, — сообщает священник. — Он устроил санитарно-питательный пункт... как же, как же... Энергичнейший, редкий человек... Свой поезд с кухней... Во время последних боев шесть тысяч человек накормил... И в сферах всемогущ... Железнодорожные власти трепещут... Чуть что — летит телеграмма принцу Ольденбургскому... Собирается писать книгу о войне под заглавием «Что я видел».
— Интересно. А что же он напишет? — спрашивает артиллерист.
— Все, — важно отвечает священник.
— Да, он молодчина, Пуришкевич! — воодушевляется офицер. Понемногу вагон погружается в дрёму. Только священник с артиллеристом все ещё беседуют.
В почтовом отделении задули свечу, и стало совершенно темно в вагоне. С минуту длилось молчание, потом послышался печальный голос поручика:
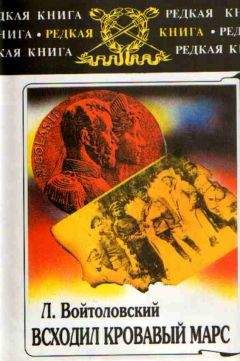

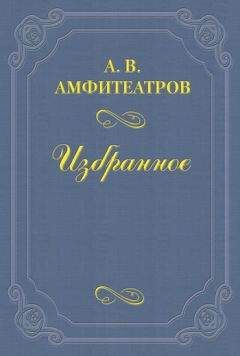
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)