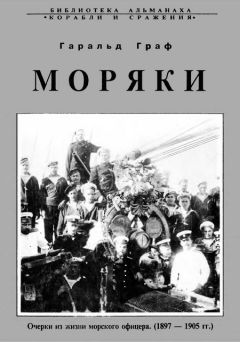Наши вечера "на скромных началах" начинались с ужина в отдельном кабинете ресторана или чьей-либо холостой квартире. Вначале все шло непринужденно и весело: пили водку "под балычок" и "под селедочку", не забывали грибки и огурчики. Настроение быстро повышалось, а с ним оживлялся и разговор. Главная дань отдавалась закускам, уже к последующему меню относились довольно безразлично и только продолжали пить "под пирожки" да "под жаркое" Когда ужин кончался и дело подходило к кофе с коньяком, то все чувствовали себя вполне удовлетворенными, и хотелось не то спать, не то танцевать. На сцену являлись пианино, балалайки или гитары, и вот с этого момента мичман X. становился незаменимым — никто не умел с таким чувством спеть "Хризантемы" или "Тройку", никто не мог создать такого веселого настроения. Все предавались "кайфу" и благодушно покуривали. Время шло незаметно, но результаты выпитого сказывались: часто все говорили разом, неизвестно о чем спорили, вдруг кто-то начинал обижаться, а другой объясняться в любви, и все сливалось в бессмысленную, но понятную и интересную для участников пира беседу. Однако и от нее уставали, и когда дело подходило к полуночи, всех тянуло куда-то дальше. В сущности, чего именно хотелось — большинство не понимало: не то переменить обстановку, не то шума, света и толпы, а главное, тянуло к женщинам. Да и куда можно ехать ночью в Ревеле, как ни к милым, но погибающим созданиям. Нет нужды, что там крайне пошлая обстановка, что дамы — весьма сомнительного свойства, а хозяйки стремятся, насколько возможно, обобрать гостей.
Заказывался традиционный кофе с бенедиктом, играли какие-то танцы, начиналось новое веселье. Это был уже последний этап. Компания понемногу таяла, кто-то исчезал и опять возвращался, и так длилось до рассвета, когда заспанные фурманы везли полуспящих господ по домам. Ночь, полная дурмана, ночь беспутная кончилась, на душе был неприятный осадок, голова болела, хотелось хорошенько вымыться и выспаться.
Так однообразно и скучно тянулись наши дни в Ревеле, а мне все не удавалось пока из него вырваться. Очевидно, приходилось ждать лета, когда начнутся назначения на суда уходящей на Дальний Восток эскадры.
Однажды монотонность службы была нарушена маленьким происшествием, которое, однако, произвело довольно неприятное впечатление. Меня назначили дежурным по экипажу в Святую ночь. Не знаю, приходилось ли это по очереди или просто решили, что мне, как холостому, безразлично, где провести этот праздник, но, во всяком случае, я получил повестку и вступил в дежурство.
Когда матросы вернулись из церкви, то начальство с ними похристосовалось, и они разговелись, а я после этого ушел в дежурную комнату и прилег на диване. Вдруг, около 5-ти часов утра, ко мне вбежал дежурный боцман и взволнованно доложил, что в роте происходит драка и в ход пущены ножи. Я вскочил и моментально бросился туда. Там представилась довольно неприглядная картина, между беспорядочно раздвинутыми кроватями и поваленными табуретками дралась большая толпа матросов. В воздухе мелькали кулаки, слышалась отборная брань и пьяные крики. Когда я подошел ближе, то действительно увидел, что у некоторых в руках были ножи.
Не долго думая, я стал расталкивать толпу и крикнул, чтобы все немедленно расходились. Те, что были менее пьяны, увидя меня и услышав окрик, сразу же разошлись, но остальные вошли в такой азарт, что никто ничего не слышал и не понимал. Пришлось при помощи караульных и дежурных их растаскивать и отнимать ножи, что в конце концов и удалось.
Вид у них был отвратительный: бледные, вздутые и злобные лица, бессмысленно блуждающие глаза, выдернутые из брюк форменки, во многих местах разорванные, многие же вообще полуголые. К тому же от всех несло отвратительным запахом сивухи и перегара. Скверное и неприятное зрелище. Слишком разошедшихся буянов я распорядился рассадить по карцерам и предупредить, что если они еще попробуют скандалить, то их свяжут Другим приказал немедленно привести в порядок помещение и лечь спать. Когда через полчаса я обошел спальни, все лежали в койках и, кажется, спали.
Эта драка после разговения и грубость матросских нраbob, с непривычки, меня неприятно поразила. Я долго не мог успокоиться, но в то же время понимал, что нельзя их слишком строго судить и надо войти и в их положение. Семь лет быть оторванным от семьи и всего родного, семь лет быть запертым в непривычной для них обстановке — на кораблях и в казармах, это не так-то легко перенести для простых деревенских парней.
Сразу после Пасхи начались приготовления к плаванию флотилии. Нас распределили по кораблям. Меня назначили на самый большой транспорт под весьма непоэтичным названием "Артельщик" Это было очень старое судно, которому перевалило за пятьдесят лет, и оно считалось чуть ли не первым винтовым кораблем Балтийского флота. В начале своего существования "Артельщик" был украшением флота, теперь же он казался неуклюжим, архаичным пароходом, с высокой трубой и яхточным носом. Он с трудом давал 9 узлов, и в очень свежую погоду на нем не рекомендовалось выходить в открытое море.
Приготовления к летней кампании заключались в окраске транспортов снаружи и внутри, погрузке на них запасов корабельных материалов, приемки угля, машинного масла и вех. Все эти работы совершались по давно заведенному порядку опытными боцманами и унтер-офицерами и, в сущности, офицерского надзора не требовали.
Пошли солнечные весенние дни, когда, кажется, вся природа набирается новой энергией. Мне хотелось скорее перебраться на "Артельщик", так как жизнь на берегу очень надоела и после зимней спячки так хотелось работать, куда-то ехать, на что-то надеяться.
Через неделю "вооружение" флотилии закончилось. Ко дню начала кампании команда и офицеры перебрались на транспорт
Командиром "Артельщика" был капитан 2-го ранга Г [* Григорьев Алексей Григорьевич (род. в 1861 г.)] — офицер средних лет, но моряк старого поколения, так называемой "парусной школы" За время своей долголетней службы он совершил много дальних плаваний на клиперах, приобрел большой морской опыт и сделался отличным моряком и командиром, но, как и многие офицеры того времени, слишком пристрастился к спиртным напиткам и этим испортил себе карьеру На походе он был отличным командиром, но, когда "Артельщик" входил в порт, по-видимому, считал свои обязанности законченными, и полным хозяином становился боцман. На стоянках Г почти не видели. Нас молодых офицеров он как-то в расчет не брал и требовал только несения вахты на ходу и дежурства на якоре. Команды никто из нас не касался и в ее внутреннюю жизнь не вмешивался: там, безусловно, всем распоряжался тот же боцман. Как человек командир был очень приятен и к нам относился прекрасно.
Из офицеров, кроме меня, на "Артельщик" назначили: штурманов — поручика флота X., из коммерческих моряков, и мичмана Щ.[* Щербицкий Михаил Иосифович (род. в 1878 г.).], старше меня по выпуску на несколько месяцев, произведенного из юнкеров флота. К офицерскому составу также причислялся чиновник, заведующий хозяйством, выслужившийся из матросов, коллежский асессор Ф. Штурман был скромный и спокойный человек; он недавно женился и весь ушел в семью. Милый и симпатичный мичман Щ. всем быстро увлекался и так же быстро во всем разочаровывался; это был тип безалаберного российского человека.
Окончивший гимназию, а затем университет, он вдруг почувствовал влечение к флоту, хотя никогда даже и не видал ни моря, ни военных кораблей. Однако, попав на флот, он уже через три месяца разочаровался и чувствовал себя не в своей тарелке. Это и понятно: он был в душе глубоко штатским человеком, и все, что, по его представлению, подходило под понятие "военщина", казалось ему скучным и ненужным. Щ. был большим идеалистом и фантазером, и, благодаря этим качествам, из него не мог, полагаю, выработаться дельный и способный морской офицер. Он постоянно занимался и что-то изучал, а насущные и простые вопросы жизни ему казались скучными и пошлыми.
Самым ярким типом являлся, несомненно, чиновник Ф. Это был хозяйственный, умный и хитрый мужик, который сумел пробить себе дорогу во флоте и отлично приспособился. Отбыв положенное время матросом, он сдал экзамен на чиновника и "медленно, но верно" дошел до чина коллежского асессора, что для него было большой карьерой. Угождая начальству, проявляя рвение к службе обладая природной сметкой, он сделался полезным человеком, которого ценили и награждали. Теперь, уже в преклонном возрасте, он мнил себя "штаб-офицером" и с гордостью носил ордена, которых имел до Станислава 2 ст включительно. Зимою всегда гулял в николаевской шинели, с высоким бобровым воротником. Эта шинель, а также вообще внушительная осанка вводила иногда нижних чинов, особенно в темноте, в заблуждение, и они не только отдавали честь, но и становились во фронт, что он принимал не без явного удовольствия.