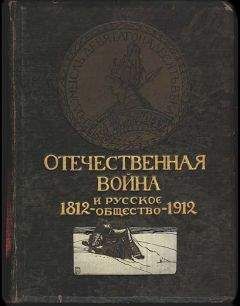Отечественная война содействовала политическому росту нашего купечества. Больших успехов в области политического сознания и классового сплочения купечество не сделало, но как показали годы, непосредственно следовавшие за Отечественной войной, громовые события освободительной войны разбудили у передового купечества Петербурга и Москвы и интерес к политической жизни Западной Европы, и недовольство политической жизнью России.
П. Берлин
Александр I в Осташкове.
Отражение войны в литературе и искусстве
(Ист. муз.).
I. Война и цензура
К. В. Сивкова
быкновенно считают, что положение нашей печати в начале царствования Александра I значительно изменилось к лучшему. Действительно, если обратиться к цензурному уставу 1804 г., то он может казаться довольно либеральным. Но положение печати лишь отчасти регулировалось уставом 1804 года: в гораздо большей степени оно определялось различными административными распоряжениями, по частям изменявшими его. Это признает и официальный историк царствования Александра I, г. Богданович, который говорит (т. V, стр. 193), что «умеренное направление нашего цензурного устава (1804 г.) было изменено произвольным толкованием важнейших параграфов его». Помимо этого, устав 1804 г. подвергался изменениям и в законодательном порядке, мало-помалу вытравившем из него значительную часть его либерализма.
Еще заметнее было отступление от основных положений устава 1804 г. в повседневной административной практике. Ст. 15-я этого устава говорила, что цензура наблюдает лишь за тем, чтобы в рассматриваемых произведениях «не было ничего противного закону Божию, правлению и нравственности и личной чести какого-либо гражданина», а, тем не менее, наблюдающие цензоры находили и другие поводы к конфискации книг. Особенно ее благосклонное внимание привлекали книги, касающиеся «политических отношений России к другим державам». В 1802 г., например, в продаже свободно обращались книги «Histoire de Bonaparte» и «Du commerce francais dans l'etat actuel de l'Europe», с напыщенными похвалами Наполеону и изображавшие его господство, как спасение для всей Европы, а в начале 1807 г. с. — петербургский генерал-губернатор Вязмитинов препроводил их к председателю цензурного комитета Новосильцову, и комитет «во уважение нынешних обстоятельств» (шла еще война с Францией) нашел их «недозволительными». Автор первой, по донесению комитета, «вообще обнаруживает себя попеременно то почитателем революции и всех ее ужасов, то подлым обожателем хищников трона». «Сверх того, — писал комитет, — сочинитель этой книги от начала до конца превозносит Бонапарта как некое божество, расточает ему самые подлые ласкательства, представляет все его властолюбивые деяния в самом благовидном виде; все его несправедливые присвоения и хищничества представляет праведными и законными». Во второй книге было усмотрено «порицание английского правительства, будто оно золотом своим подкупает прочие европейские державы (а, следовательно, рассуждал комитет, и Россию) к союзу против Франции»; «будто Англия есть единственная причина всякой войны в Европе» и проч. В виду всего этого, вопреки уставу 1804 г., книги было постановлено изъять из продажи, но оказалось, что первая вся распродана — поэтому воспретили ее второе издание, а вторая — слишком специальна, а потому имеет малое распространение и, значит, не опасна; таким образом, лишь благодаря этим обстоятельствам издатели не понесли убытков за разрешенные ранее цензурой книги. Но после Тильзитского мира нужно было, наоборот, хвалить Наполеона, и потому, когда Глинка в «Русском Вестнике» стал нападать на него, то министр народного просвещения выразил по этому поводу неудовольствие председателю цензурного комитета: «Таковые выражения, — писал министр 19 апр. 1808 г. по поводу статей Глинки, — неприличны и предосудительны настоящему положению, в каком находится Россия и Франция. Почему строжайшим образом предписать цензурному комитету, дабы воздержался позволять в периодических и других сочинениях оскорбительные рассуждения и проходил бы издания с наибольшей строгостью по материям политическим, которых близко не могут видеть сочинители (курсив наш), и, увлекаясь одною мечтою своих воображений, пишут всякую всячину в терминах неприличных».
Вслед за тем всем учебным округам было предписано, чтобы «цензоры не пропускали никаких артикулов, содержащих известия и рассуждения политические», при чем объяснялось, что обо всем, касающемся правительства, можно писать только по воле самого правительства, которому лучше известно, что и когда сообщить публике[96]. Но перед войной 1812 года отношение правительства к Наполеону опять изменилось, и деятельность Глинки не только перестала встречать препятствия, но он даже получил орден Владимира 4 степени, а гр. Ростопчин сказал ему: «Развязываю вам язык на все полезное для отечества, а руки — на триста тысяч экстраординарной суммы».
Злоключения печати не исчерпывались, однако, замечаниями, предупреждениями и запрещениями обсуждать тот или иной вопрос: за период 1804–1811 гг. было немало случаев конфискации книг по разным причинам и поводам. Так, в сентябре 1807 г. (т. е. после Тильзитского мира) было отобрано 5 тыс. экземпляров сочинения «Тайная история нового французского двора», которое было переведено с немецкого в 1806 г. с дозволения петербургского цензурного комитета. Вслед за этим петербургский генерал-губернатор приказал «истребить огнем» эту книгу. Тогда издатель потребовал возмещения убытков, и ему выдали 6.500 руб. Другой случай был такой. В 1806 году к книгопродавцу Динеману было привезено из-за границы несколько экземпляров сочинения: «Feldlzug von 1805 г.», неблагоприятного для нашей армии. Тогда упомянутый уже ген. Вязмитинов послал петербургскому губернатору такое предписание: «По высочайшему его императорского величества повелению, препровождаемого при сем книгопродавца Динемана благоволите приказать выслать за границу». Подвергались гонению и книги религиозного содержания. Сначала преследовали масонские и мистические книги, допуская их к печатанию со значительными ограничениями; потом с них сняли опалу, но стали преследовать книги, враждебные цели библейских обществ[97].
Уже этих фактов достаточно, чтобы видеть, насколько была далека от свободы наша печать начала царствования Александра I. Проявление какой-либо оппозиции правительству, какая-либо критика внутренней или внешней политики правительства, — все это было совершенно невозможно при том толковании устава 1804 г., какое он получил в повседневных действиях администрации.
Тем не менее, перед самой войной комитет министров еще раз занялся по одному частному случаю вопросом о печати, и результатом этого было новое ограничение ее прав. 12 апреля 1812 г. министр народного просвещения представил в комитет записку о политических статьях, помещаемых в русских газетах. Поводом к этому послужило представление попечителя Дерптского университета о том, может ли «цензурный комитет сего университета позволять издателям лифляндских и курляндских газет помещать в оные известия о движении иностранных войск к нашим границам и других подобных предметах, касающихся до настоящих отношений России к другим государствам, заимствуя известия сии из иностранных газет, которые почтовой цензурой пропущены и, следственно, имеют уже в публике обращение». Рассматривая этот вопрос, комитет министров согласился с мнением министра народного просвещения, который, «принимая со своей стороны в рассуждение, что иностранные газеты находятся в руках невеликого числа особ, а печатаемые в России ведомости обращаются в большем количестве и даже между людьми самых низких состояний; также, что публика к известиям иногда вовсе ложным, помещаемым в иностранных газетах, не может иметь полной доверенности, между тем как помещением оных в наших газетах они почитаются некоторым образом признанными нашим правительством, находим, что полезно было бы в настоящих обстоятельствах постановить, чтобы издатели всех газет в государстве, в коих помещаются политические статьи, почерпали из иностранных газет только такие известия, которые до России вовсе не касаются, а имеющие некоторую связь с нынешним нашим политическим положением заимствовали единственно из „С.-Петербургских Ведомостей“, которые издаются под ближайшим присмотром»[98]. Но так как «С.-Петербургские Ведомости» не считали нужным оповещать публику о грядущих событиях, то и частные газеты должны были молчать о том, чего скрыть было нельзя и что у всех было на языке уже с 1811 года — приближение войны с Францией. Как говорит А. Н. Попов[99], «народ уверен был, что будет война, хотя газеты и в марте месяце (1812 года) сообщали известия от февраля о стуже в Неаполе, карнавале в Париже, маскараде в Тюльери, разливе Рейна, дозволении из Швеции в Норвегию вывозить сырые кожи и т. п., и ни слова не говорили о военных приготовлениях». По словам современника А. Бестужева-Рюмина, уже в половине 1811 года стали поговаривать о разрыве тильзитского мира, но «ничего не было приметно, и все оставалось спокойно», а «С.-Петербургские и Московские Ведомости» даже продолжали именовать Наполеона великим; только из иностранных газет, получавшихся в греческих гостиницах, он узнавал, что «что-то неладное между нами и французами», но мало этому верил, считая, «что и иностранные газеты часто наполняются всякими неосновательными слухами», и лишь когда некоторые №№ этих газет были задержаны, он решил, что «что-нибудь да есть»; «однако ж, — добавляет он потом, — 1812 год начался весьма спокойно и, благодаря Бога, Москва ничем возмущена не была: масленицу провели очень весело, не подозревая никаких опасностей, и не думали даже о них»[100]. Та же неосведомленность о происходящих событиях была в обществе и во время войны. Маракуев в одном месте своих записок, относящемся к августу 1812 г., сообщает, что «печатного от правительства почти ничего не было»[101].