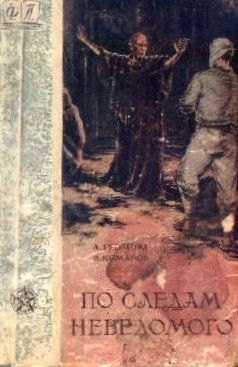Мы шли по холмистым уступам, вдыхая вольный воздух Карпат. Навстречу нам попадались крестьяне, учтивым поклоном спешившие выразить свою покорность. Вереницей тянулись горные парки со снарядными лотками через седло. Неожиданно вырастали отдельные домики в тесной ложбине. Вдруг на гребне горы чуть прикрытые ельником развернулись двумя огромными цепями окопы. Они были оставлены совсем недавно. Всюду валялись патроны, гильзы, рваные патронташи, отрезанные солдатские рукава и голенища, штыки, винтовки, подсумки, осколки снарядов, обоймы, коробки из-под консервов, шрапнельные стаканы, обрывки писем и свежие насыпи с крестами. На некоторых крестах простые надписи: «Гядовой 280-го Сурского полка, крестьянин Таврической губ. Мелитопольского уезда Афанасий Позняков и фельдфебель Григорий Червонихин. Убиты 20 декабря». Возле одного из окопов возвышался могильный холмик, отмеченный небольшим сосновым крестом. На кресте висела простреленная солдатская фуражка, а под ней полустёртая надпись карандашом: «Солдат Кромского полка. Умер геройской смертью 22 декабря, спасая друга. Оба убиты».
Сейчас же за двойной цепью наших окопов, шагах в шестистах, расположились окопы австрийские — с характерными коридорами, брустверами и траверсами. Здесь была совершенно такая же картина. Только вместо серых лохмотьев валялись обрывки синих шинелей; вместо белых узких обойм — двойные, широкие, из чёрной жести; вместо трехгранных штыков — плоские, широкие ножи; вместо жёлтых консервных банок — белые; вместо русских писем — немецкие и польские, но с теми же нежными словами: дорогой, коханый, милый, любимый. Сколько солдатских писем размётано ветром по всем ложбинам Карпат, по грязным галицийским дорогам...
Мы подобрали несколько писем в окопах, грязных, измятых. Одно из них, большое, во многих местах сильно перечёркнутое, — неотправленное письмо офицера. Или, может быть, набросок письма, черновик. Оно очень длинное, писано под Новый год и набрасывалось второпях. Думаю, не совершу нескромности, если приведу несколько отрывков из этого письма. На нем лежит печать того фатализма, которым отмечена психология всех воюющих.
...Прошу вас, внимательно прочтите это письмо. Я не ожидал, что вы напишете... Удивляюсь. Но получил: значит, вы меня помните. Это хорошо. Но этого мало. («Боже, как мало!) Мне казалось, мы с вами два разных различных полюса. Виноват, я не магнит и вообще нечто совершенно противоположное вам. Я живо помню моё знакомство с вами... Я тогда способен был совершить что угодно, лишь бы разговаривать с Вами. Я ушёл от вас, опьянённый восторгом. Встречаясь потом с Вами, я всегда находился в особенном состоянии: я горел... Всего этого я не б силах забыть даже здесь. Только вы (вы одна) так действовали на меня. Больше никто, никогда. Вы не старались так сжигать меня — выходило независимо от вас. Все это было само собой. Не вы того хотели, этого хотела сама судьба.
Во время мобилизации вы встретили меня — и таким тоном, как будто я для вас самый обыкновенный знакомый, бросили мимоходом: «Едете?.. Может быть, вернётесь калекой?» Это было грубо. Если это так — оставьте меня с моими страданиям. Или вы мне скажите: «Я хочу быть с вами безгранично искренней». Или я услышу от вас: «Я вам не компания, и умирайте, не достигнув того, чего жаждали всей душой. Другого исхода у нас с вами быть не может. Поймите; мы не принадлежим к обывательской породе...» Вот чего я жду всем существом своим. Простите банальную чувствительность; вы для меня дорогое воспоминание виденное издали рая. Тот сад, благоухающими цветами которого я любовался издали. Но меня не пустили в этот сад; я там был лишний.
Теперь великое мировое дело. И я участник этого тяжёлого дела. Но вас не могу забыть. Я часто вспоминаю о вас. Вспоминал вас вчера, вспоминал то письмо, которое вы написали мне ещё из Курска. Перебирал все наши встречи, и странно: сегодня получил от вас новое письмо, которое, я считаю, написано только из любопытства и... спешу удовлетворить его. Поздравляете с Новым годом? Благодарю вас— и вас также поздравляю. Интересно вам от нечего делать узнать, что со мною? Я ещё жив и кто знает, быть может, и буду калекой. В Г омеле я сформировал полк и теперь командую им. Много людей, лошадей, пулемётов, а боя никакого. Раньше было мучительно много дела. Бились у Новой Александрии, бились у Кракова. А теперь находимся около Т-ва. В горах. Живу уже три недели в одной халупе (так называются сельские домики в Польше), у поляка слесаря. В одной тесной комнатке нас шесть человек офицеров; раньше было много движения, почти каждый день и ночь. А теперь отдыхаем. Людям много тёплых вещей присылают. Денег тоже много. Корм хороший. Теперь стоим против противника, окопались, и идёт маленькая перестрелка. Не то было прежде; гром пушек, непрерывная трескотня ружей и пулемётов. Сейчас затишье. Довольно сильные морозы и большой снег кругом. Описать вам Карпаты? Нет, лучше признаюсь в маленькой нескромности; иногда я позволяю себе мечтать, что после войны мы побываем здесь вместе с вами.
Теперь я ношу костюм австрийского офицера. Этот маскарад тоже считают одним из условий вашей победы... Нас не забывают. Это внимание сердечное, искреннее, бескорыстное, эта память о людях, из которых многие не вернутся, трогает сильно. Необходимо, чтобы мы победили теперь. Хотя бы стоило это потрясающих жертв. Иначе все время будем находиться под угрозой сильного противника. Понемногу учусь говорить по-венгерски и по-польски. Моим успехам содействует хозяйка. Молодая, бойкая женщина. (Мы с ней большие приятели. Часто говорим о любви. Но это флирт безопасный.) В нашем полку есть много раненых.
Временами нам приходится очень плохо. Русские совсем не такие орлы, как это изображают наши газеты. И война совсем не такая приятная забава, как это рисуется нашим генералам.
Кажется, ваше любопытство удовлетворил? Это для вас сделал я исключение. Я пишу только тем, которые мне пишут не только из любопытства или из вежливости, а действительно интересуются мной. Если хотите, напишите, и я буду с вами переписываться так, как с моим другом женщиной. Это письмо много продумано моим слабым мозгом. Потому, прошу вас, прочтите внимательно и отвечайте тоже совершенно искренне. Если не поймёте, это будет означать «нет». А если поймёте, должны написать «да». И тогда мы будем до встречи жить воображением, которое будем корреспондировать друг другу; а потом встретимся. Если судьба разделит нас физически, если буду убит, — я верю: вы все-таки сохранитесь для меня в горе о потерянном. Вам это непонятно? Вы знаете, здесь, на войне, человек о многом научается думать по-иному. То, что вам далеко от грома пушек и ежеминутной возможности умереть кажется пустым и неважным, для нас... Впрочем, не буду нагонять на вас... Ведь вы... Итак, с Новым годом!
Дома застали приказ из корпуса: в срочном порядке приготовить и сдать «Журнал военных действий». Пишу всю ночь напролёт: некогда оторваться от стола. Вспоминается весь пройденный путь: бесконечные отступления, паническая суета под Красноставом, шрапнели над парком, величественные летние ночи под звёздным небом, изрытые окопами поля, тысячи раненых, братские могилы, дождливые осенние ночи, сожжённые города, деревни, посады, фольварки, избы, мучительные дороги, лесные дебри, непролазные топи, головоломные кручи, пески, овраги и опять леса и болота, леса и болота без конца, изнурённые и голодные люди, груды конских и человеческих трупов, валяющихся придорожной падалью, вонючие, грязные стоянки, хилые дети, испуганные крестьяне, заплаканные и трагически-безропотные евреи, погромы, голь, нищета и глухие проклятия войне, солдатам, судьбе и жалкой человеческой доле.
После обеда явилась депутация стариков к Базунову. Кланяются в пояс.
— В чем дело?
— Из окрестных деревень. От солдат житья нет. Все ломают, грабят, по ночам врываются в дома — требуют денег, угоняют скот, лошадей, воруют подушки, вещи, ни одной бабе проходу не дают, даже старухам.
Базунов послал рапорт в дивизию с извещением, что для охраны населения в Рыглицах им приняты меры, но оградить окрестное население от солдатских грабежей он не в состоянии и просит командировать в его распоряжение полуроту солдат для несения караульной службы в окрестностях.
— Вот теперь-то и взвоют жители, — заметил Базунов. — Эта полурота всю ночь грабить будет.
— Зачем же вы хлопочете о присылке?
— А что же прикажете делать? Не напишешь рапорта, ещё под суд попадёшь.
Отношение жителей резко изменилось: они стали менее разговорчивы и иногда отпускают какие-то загадочные замечания. В прошлое воскресенье ксёндз пробощ обратился к прихожанам с проповедью: о хранении секретов. Я не слыхал этой речи, но, как передавали лазаретные доктора, говорил он с обычным театральным подъёмом и в порыве ораторского увлечения сравнил болтливых женщин с убийцами, которые поражают из-за угла доверчивых друзей. Доктора много смеялись над патетическими гиперболами проповедника, хотя тут же добавили:
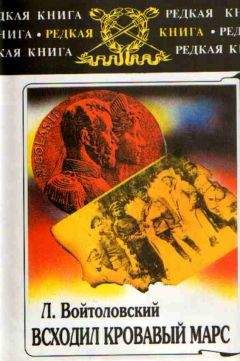

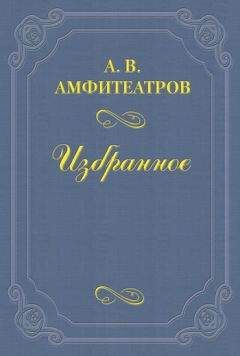
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)