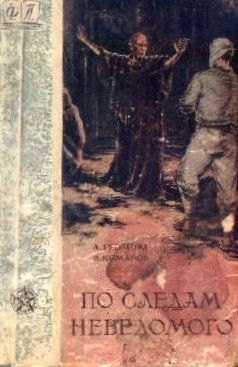Сидим на крылечке и беседуем с денщиком командира Кубицким, который посвящает меня в подробности рыглицкой жизни. Прапорщик Болеславский напился и мандолинку об стол разбил. Из Кракова в Рыглицу пробрался польский профессор, который по-русски хорошо разговаривает. Племянница старого Буйка заболела дурной болезнью от подпрапорщика Грибанова. Пан Сикорский опять во Львов ездил и вернулся очень довольный...
Пан Сикорский — тридцатипятилетний толстяк с румяным лицом и наглыми глазами, оказывает какие-то тайные услуги нашему штабу. Он часто шушукается с пехотинцами, у которых скупает за бесценок австрийские кроны, снятые с убитых, и отвозит кроны во Львов.
Самую важную новость Кубицкий приберегает к концу. Он приближает ко мне лицо с расширенными глазами и говорит таинственным шёпотом:
— Мертвяки знов тупоталы[19].
Перед большими боями (это знают жители всех прикарпатских местечек и деревень) начинается по ночам движение мертвецов на Карпатах.
Из могил выходят все убитые солдаты и офицеры, собираются по старым частям и идут, рота за ротой, полк за полком, вверх по крутым дорогам.
— А от кого ты слыхал, Кубицкий?
— Стара Юзефа сусидкам казала.
— Что же она говорила?
— А кто их знае? Як воны худко засверкочут, я нычого не разберу.
— Ну, ладно. А какая погода стояла? Туманы?
— В ярах витра нэмае, а на горбаку — дуе.
Кубицкий не признает этнографических тонкостей. Весь мир он спокойно рассматривает с точки зрения собственного села, перекраивая и быт и природу Галиции на свой полтавский солтык. Госкошные парки при замках он упорно называет садочками, а глядя на высокие резные решётки, окаймляющие стальной оградой парки, Кубицкий лениво спрашивает:
— На що им такой зализный[20] тин здався?
Карпаты он раз и навсегда измерил своим украинским глазом и разбил их на горбаки и ярочки (холмики и ложбинки).
— Хотел бы тут жить, Кубицкий? — спросил я его как-то.
— Хиба ж тут людям жить можно? Тут тилько зайчикам бигать. Впрочем, не в одном лишь Кубицком живёт эта домотканая заскорузлость. Нигде с такой отчётливостью не выступает профессионально-классовое нутро человека, как на войне. Это особенно сказывается на офицерах; царская армия вся пропахла духом крепостной николаевщины. Солдат — раб, холоп «по приводу». На службу он смотрит, как на барщину, и до сих пор уныло поёт:
В воскресенье раным-рано
Во все звоны звонят —
На солдатскую на службу
Наших парней гонят...
Вы тоску родной сторонки
Газносить по ротам —
Вам винтовка будет жонкой,
Плётка — помолотом.
Офицер — душой крепостник. Конечно, это не прежний секунд-майор и кнутобоец, но даже самый либеральный из военных говорунов за порогом офицерского собрания немедленно превращается в плантатора или негритянского королька. «Гуки по швам! Гуки по швам!» — этой формулой исчерпывается все мировоззрение офицера. В переводе на казарменный обиход она обозначает глубочайшее презрение к нижним чинам, издевательство, зуботычины и жестокость, доходящую до садизма. Ведь ни один народ в мире, кроме русского мужика, не додумался до «заговора на подход к лютому командиру».
Сколько нужно было выстрадать солдатскому сердцу, чтобы, идя к начальнику, шептать трясущимися от страха и ненависти губами: «... От синя моря силу, от сырой земли резвоты, от частых звёзд зрения, от буйна ветра храбрости ко мне... Стану, раб Божий, солдат негожий, благословясь, и пойду, перекрестясь, из казармы дверьми, из двора воротами, пойду я, раб Божий, солдат негожий, с полками да с ботами, с солдатскими заботами, на чистое поле, под красное солнце, под светел месяц, под частые звезды, под полётные облака... И буди у меня, раба Божьего, солдата негожего, сердце моё — лютого зверя, гортань — львиная, челюсть — волка порыскучего... И буди у начальника моего, супостата болотного, капитана пехотного, брюхо — матерно, сердце — заячье, уши — тетеревиные, очи — мёртвого мертвеца, а язык — повешенного человека; и не могли бы отворятися уста его и очи его возмущатися, не ретиво сердце бранитися, ни рука его подниматися на меня...»
— Ты от кого научился этому заговору? — спросил я Окулова, солдата Олонецкой губернии.
— Не могу знать, — ответил он равнодушно и лениво добавил: — Окулов что знат?.. Что темно, что светло... У нас людей нет — одни олешки бегают...
Кадровый царский офицер проводит весь век свой между колодой карт и бутылкой водки. У него такой же масштаб, как у Окулова и Кубицкого. Только вместо аграрно-шаманской мерки у него своя — трактирно-амурная установка. При обсуждении военных событий то и дело слышишь от офицеров такие даты — в духе чеховской «Живой хронологии»:
— В боях при Тэнгобоже... Помните?.. Это там, где нас старкой ксёндз угощал...
— Это там, где мы помещика на триста рублей накрыли...
— Это там, где мы с паненкой танго в тёмной комнате танцевали...
Всякий раз, как я слушаю эту живую офицерскую хронику, мне вспоминается разговор с аптечным фельдшером Шалдой.
— В Галиции книжки хорошие, — объявил он мне.
— Разве вы читаете по-польски?
— Нет, для порошков бумага хорошая.
Прибегает какой-то оборванный, лысый, бородатый еврей, кланяется в пояс, просит к больным детям:
— Пане, пане, хворы дуже!
Прихожу. Восьмеро ребят. Старшей девочке лет четырнадцать.
Две девочки помоложе — в постели. Бледные, тощие, испуганные. Прячутся от меня под одеяло. Кое-как осмотрел — тиф. В доме шестнадцать солдат. Хозяин просит: уберите хоть половину. У дверей мать-старуха хватает меня за рукав и кричит на жаргоне, уверенная, что говорит по-немецки:
— Ратуйте, доктор! Что делать? Умираем с голоду. Работы нет, денег нет, дети хворают... Что делать? Только солдатами и держимся.
— Какими солдатами?
— Ваши жолнежи... Хлебом деток годуют (кормят). Странный народ эти солдаты: днём кормят население своим хлебом, а ночью ломают клети, растаскивают заборы на топливо, грабят, насилуют...
Дорога залита чёрной, густой, вонючей жижей. Лошади вязнут по колено в грязи. Люди тяжело ступают по лужам за хлюпающими возами. Над местечком нависла остервенелая брань, такая же мерзкая и противная, как брызги вонючей грязи. Огромный обозный солдат хлестал кнутовищем лошадь и вопил, задыхаясь от бешенства:
— Не скидай, мать твою так, я тебя научу скидавать! Тяжче смерти сделаю, стерва окаянная!
Другой с пеной у рта разносил кучку пехотинцев, расположившихся тут же на дороге:
— И чего вы тут, черти, лодыри, шляетесь? Сидели б в своих окопах и не мешали б людям дело делать!
На что пехотинцы с ленивым презрением отвечали:
— Ишь, развонялась, кишка обозная! Раскрой шире хайло-то: пулей заткну.
Десятки солдат, распахнув полушубки и сдвинув папахи на затылок, надсаживаясь, обливаясь потом и сотрясая воздух градом калёной матерщины, вытягивали из грязи застрявшие возы.
Бочком в стороне от дороги идёт группа евреев — старики и женщины. Пугливые, безмолвные, нищие.
— И жалко, глядя на них, — говорит громко солдат, — и душа не знай чего злобится. Только у них и дела, что плачут.
— Со страху больше, — вставляет другой. — Дух у них хлипкий. Ты к ему с лаской, а у него поджилки трясутся, и верезжит по-пёсьи.
Путаясь в своих долгополых кафтанах, плетутся, сгорбившись, старики, и к ним пугливо, как овцы, жмутся худые, обмызганные женщины. Ни разу не привелось мне здесь видеть евреев вместе с поляками. Евреи довольно редко показываются на улице. Но когда их видишь, они цепляются друг за дружку — отдельно от поляков. Даже дети еврейские и польские никогда не сходятся вместе. А если поляки говорят о евреях, то всегда с усмешкой, неприязненно и обидно. Дети и молодые девушки говорят иногда по-польски, старики — никогда: друг с другом — по-еврейски, а с нами — охотнее по-немецки.
— Разве вы не говорите по-польски? — спросил Джапаридзе пожилую еврейку Шифру Блюм.
— Говорим, — ответила она, — но нам приятней разговаривать по-немецки. Мы друг друга не любим. Зачем же нам говорить по-ихнему?
У костёла повстречался с двумя ксендзами. Оба взволнованы. Рассказывают такую историю. На базаре в праздничный день жители обступили обозного солдата, продававшего в небольших пакетиках чай — солдатские порции. Тут же стояли оба ксёндза, наблюдая за торговлей. Проходил мимо обозный офицер, увидал эту сцену, ударил солдата по лицу и рассыпал пакетики с чаем — в том числе несколько проданных и оплаченных. Ксёндз пробощ загорячился и начал укорять офицера. Тот грубо оборвал:
— Уходите отсюда, а то и сами того же дождётесь. Ксендзы, конечно, ушли.
Вечером обозный капитан пришёл к докторам на пульку и застал обоих ксендзов. Ксёндз пробощ стал журить капитана. Капитан свирепо выругался и пригрозил выселить обоих ксендзов из Рыглицы.
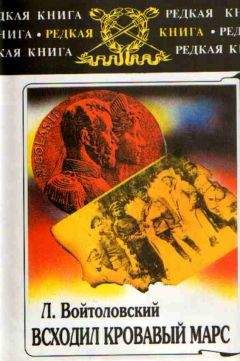

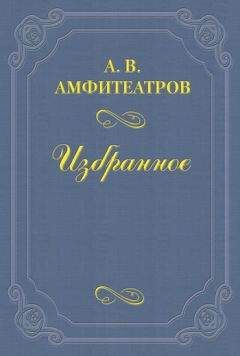
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)