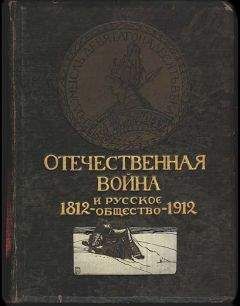В исторических сценах, рисующих Наполеона с его свитой и французское войско, Булгарин сильнее и интереснее; следуя за Сегюром, Шамбре, пользуясь своими личными воспоминаниями, он дает иногда живые и правдивые картины, в роде, напр., ночи перед Бородинским боем (ч. III, стр. 103), где автору, очень близко держащемуся Сегюра, удалось довольно драматично передать душевную смуту «больного героя», или французских биваков под Москвой, этого в своем роде единственного зрелища, в котором уже зловеще соединялись роковые для «великой» армии контрасты: «в густой грязи разложены были огни. Вместо дров жгли мебель красного дерева. Одни лежали на мокрой соломе, а другие покоились на шелковых софах и в дорогих креслах… Бедные, изнеможенные покорители Москвы ели с жадностью пареную рожь, кашицу из ржаной муки или лошадиное мясо, полусырое, облитое кровью» (ч. III, стр. 237). У огней французских биваков искали безопасности и грелись московские жители, утолявшие голод «остатками трапезы своих притеснителей»; даже вооруженные русские солдаты расхаживали между шатрами, и французы не обращали на них внимания: «бедствие и расстройство военного порядка сделало их ко всему равнодушными»… Автор пытается показать постепенную деморализацию французской армии, объяснить ее причины, и во всяком случае не делает Наполеона и французов предметом безразборчивой злобы и издевательства; говоря о жестокостях войны, он выделяет, словами литовских крестьян, — «безпальцев и поварцев», т. е. вестфальцев и баварцев, которые «во сто раз хуже французов»: француз готов, как сыт да выспался, поделиться последним куском с голодным, а «уж эти безпальцы и поварцы так хуже исправников и заседателей на экзекуции»… (ч. II, стр. 112). Также, по-видимому, Булгарин у себя дома, когда ведет читателя в литовские семьи и усадьбы, к гг. Мориконским, Ромбалинским и т. п.; не без юмора изображает он литовский полк, «сильный духом, но не числом солдат», полк, в котором очень много офицеров, живущих, впрочем, по своим деревням, и мало солдат, к тому же служащих ординарцами у гг. офицеров… Такого рода сценки — счастливые «оазисы» в обширном романическом хитросплетении четырехтомного повествования. Переходя к изображению русских, Булгарин явно слабеет; он еще удачно намечает канву событий (во многом сходную с исторической канвой «В. и М»): Вильно, бал в Закрете, высочайшие приказы о вступлении неприятеля в пределы России, ополчение Москвы и Петербурга, сцены в Слободском дворце, Москва перед вступлением неприятеля (афиши Ростопчина, их чтение народом…), бегство из Москвы населения, Бородино, Тарутино… Но самый рисунок событий — вялый, бесцветный, утомительно-скучный, заменяющий изображение риторической декламацией; он почти не выводит на сцену живых деятелей истории — ни народа, ни «русских героев», так как этих последних «не смел заставить говорить и действовать», предпочитая рассказывать о них устами вымышленных лиц или прячась в цитаты из писем Ф. Глинки[118]. Сам сражавшийся против русских, он теперь становится в позу русского патриота и, как всегда бывает в подобных случаях, холодный внутри, искусственно горячит и перенапрягает свое патриотическое рвение. Устами Коленкура в беседе с Наполеоном автор дает такую характеристику новому поколению России: «Русское дворянство, в общем смысле, единственное в мире. Оно предано престолу и всем пожертвует за независимость России. Богатое русское купечество отдаст все свои сокровища, а простой народ охотно пойдет на явную смерть по первому слову своего государя, за веру и отечество! Государь! Россия есть гранитный утес в политическом мире» (ч. II, стр. 91). Автор, впрочем, не скрывает, что и «в самом лучшем саду водятся черви», но дает мало убедительные карикатуры графа Хохленкова или семьи князей Курдюковых, в которой «княгиня плачет, что прекратились сообщения с Парижем, а княжна горюет, что кузены ее будут бить французов, и что французы пришли в Россию не на балы, и получатъ дурное об нас мнение, живя по деревням» (ч. II, стр. 244). Такое французолюбие, конечно, не остается безнаказанным, — и княжна бежит с французом, оказавшимся простым барабанщиком, что вызывает у г. Русакова такую реплику: «Вот те французолюбие! Княжна — чуть-чуть не барабанщица! Ха-ха-ха! Дельно, не ищи мужа за морями!» Так же карикатурно построена сцена бегства населения из Москвы, где те же граф Хохленков и князь Курдюков везут на подводах предметы роскоши и двух французов, друзей дома, совершенно не обращая внимания на плетущихся по дороге раненых русских офицеров и солдат. Выжигин опрастывает силой подводы, пересаживает на запятки французов и размещает раненых. «Ребята! — сказал Выжигин раненым солдатам, поместившимся на повозках графа и князя: — поблагодарите их сиятельства за милость! Они добровольно пожертвовали своим добром, чтобы только пособить вам. А вот они же велели дать вам денег!» Выжигин вынул из собственного бумажника пук ассигнаций и дал унтер-офицеру, чтоб он разделил их между ранеными от имени графа Хохленкова и князя Курдюкова (ч. III, стр. 231). Эта лубочная сценка, имеющая целью наглядно противопоставить французолюбию и эгоизму истинный патриотизм, может дать достаточное понятие о том фальшиво подчеркнутом патриотическом тоне, в каком автор рисует лица и события русской действительности 12-го года. Справедливо в свое время заметил по этому поводу Бестужев-Марлинский, что в романе Булгарина «русских едва видно, и то они теряются в возгласах или падают в карикатуру»…
Наполеон при Березине. (Эскиз Верещагина).
Не совладал с изображением 12-го года и Загоскин в своем «Рославлеве». Роман написан как бы на тему упомянутого выше г. Русакова: «Не ищи мужа за морями», или, как выражался Марлинский, «героиня любви Рославлева вспенена из двух стихов трагедии (Хераскова) „Освобожденная Москва“»:
«Она жила и жизнь окончила для Вьянка:
Да тако всякая погибнет россиянка!»
Такой погибающей россиянкой оказывается Полина, дочь богатой помещицы Лидиной, большой поклонницы всего французского; Полина еще в Париже полюбила французского полковника графа Сеникура; в нее же влюбляется Влад. Рославлев, который и становится женихом… Настает 12-й год. Рославлев отправляется на войну и совершает чудеса храбрости. Сеникур, раненый, попадает в плен и оказывается в имении Лидиных. Раненый Рославлев едет туда же… Но поздно: Полина — жена Сеникура. После разнообразных приключений Рославлев снова встречается в Данциге с Полиной, уже овдовевшей, обесславленной, в нищете, больной… Русская бомба прекращает ее страдания, а Рославлев женится на сестре Полины Ольге, истинно русской девушке. Эта схема разработана автором в стиле заурядного авантюрного романа и сдобрена крупной дозой модного тогда радклифизма; интерес сосредоточивается на прихотливых изворотах романической фабулы, сказочных случайностях и совпадениях, над дикими вычурами которых не прочь иногда пошутить и сам автор; такова, напр., сцена на кладбище (ч. II, стр. 206), когда в бурную ночь под раскаты грома происходит венчанье Полины и Сеникура, а Рославлев становится неожиданным свидетелем этой свадьбы и лишается чувств. «Из этого, — говорит веселый друг Рославлева Зарецкий, — можно сделать такую адскую трагедию a la madame Радклиф[119], что у всех зрителей волосы станут дыбом! Кладбище… полночь… и вдобавок сумасшедшая Федора… Ну, свадебка!»
В основу интриги романа Загоскин положил истинное происшествие, которое в свое время было предметом общих разговоров; некогда «проклятья оскорбленных россиян гремели над главой несчастной», и теперь, задним числом, автор от себя собирает новые несчастья на голову девушки, виновной лишь в том, что она полюбила, не справляясь о национальности. Тенденция романа очень определенно выражена в словах Полины: «… разве у меня есть отечество? Разве найдется во всей России уголок, где бы дали приют русской, вдове пленного француза?.. Безумная! я думала, что могу сказать ему: твой Бог будет моим Богом, твоя земля — моей землей»[120]… Эти слова достаточно выразительны для того наивного патриотического пыла, который Загоскин вложил в романическую сторону своего повествования. Что касается собственно исторического задания, то автору не удалось оправдать притязательного титула: «Русские в 1812 году». В этом новом своем романе Загоскин в значительной степени повторил свой старый (Юрий Милославский): Милославский — Рославлев, Кручина — г-жа Лидина, юродивый — дура Федора, Кирша — партизанский офицер и т. д.; «история» у него тонет в «романе»; автор не показал ни крупных исторических лиц, ни хода исторических событий; о них он говорит в перечневом изложении, которым связывает отдельные моменты романа. Только Наполеон сильно и живо зарисован один раз среди московского пожарища, когда он едва не гибнет в бушующем вихре дыма и пламени — сцена, в которой яркий драматизм, заимствованный у Сегюра, смешивается с самодельно-патриотической мелодрамой: проводник-купец заводит Наполеона в объятый со всех сторон пламенем тупик, бежит от французов, «как злой дух, стрегущий преддверие ада», появляется на верхних ступенях лестницы горящего дома и «с громким хохотом исчезает снова среди пылающих развалин»… (т. III, с. 114). Можно вполне согласиться с современными роману критиками, которые отмечали «несвязность мелкой интриги романа с историческими событиями» («М. Телеграф», 1831 г., № 8), с одной стороны, и даже отрицали самую его историчность — с другой: «Неужели три-четыре черты составить могут картину? Неужели пара помещиков да пары две офицеров, да один уголок траншеи под Данцигом могут дать полное понятие о русских, о войне громового 12-го года?»[121] Если не две, то одна «пара офицеров» заслуживает быть отмеченной: живая фигура партизана Зарецкого, смесь поэзии, разгула, любви к веселой Франции и в то же время готовности топтать врага в лихих наездах и сложить свою голову за родину; «певец любви, вина и славы» в мирное время, а в военное «ангел истребитель» со своими крылатыми полками, и рядом с ним мрачная фигура молчаливого артиллерийского офицера, который «желал бы быть палачом, чтобы отсечь одним ударом голову всей (французской) нации» (т. I, 125) и частично выполняет эту роль, целыми грудами истребляя беззащитных пленников (т. II, 210). В том и другом без труда можно узнать Давыдова и Фигнера. Оставляя в стороне бесцветную и бесхарактерную личность Рославлева, в уста которого автор влагает свои патриотические декламации, укажем на то, что Загоскин интереснее всего как бытописатель: и не тогда, когда пытается дать в первых главах романа последовательную характеристику общественного настроения и мнений о походе Наполеона в Россию франтов и молодежи, лиц купеческого звания, знатных галломанов, какова княгиня Радугина, полагающая высочайшей степенью просвещения для России «быть сколком с других наций, а особенно с французской», наконец мужиков и мещан… У автора хорошо выходят те сценки, в которых он без задних целей отдается своему благодушному юмору и набрасывает картинки помещичьей жизни провинциального захолустья или изображает стоянку ополченцев, которые несут сюда из своих дворянских гнезд привычку к широкому хлебосольству и не могут выдержать военного тона, невольно сбиваясь из полковников и адъютантов в простых Николаев Степановичей.