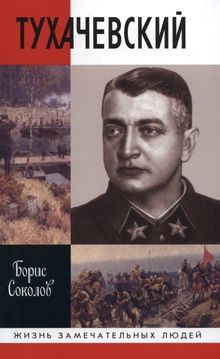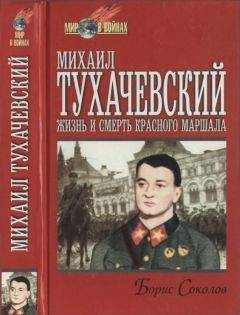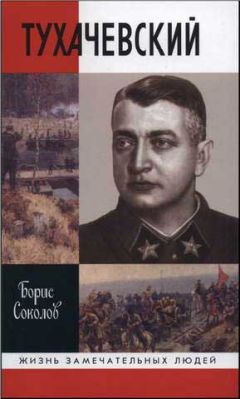не было никакого желания работать в архиве, он на просьбы и советы Богомолова не реагировал, вежливо уклонялся. В откровенном разговоре с близким другом о себе, о своем писательстве он называл себя «сочинителем». Это понятие было совершенно чуждо Богомолову, он его не принимал, не хотел принимать. И в какой-то момент Володя оскорбился. Может быть, не исключаю этого, ему почудилось, что Быков с пренебрежением относится к тому, как он, Богомолов, работает. Я не раз пытался втолковать Володе, что Быкову, наверное, не нужен архив, у него иные способы постижения жизни, поисков материала, проблем, героев, сюжетов. Но Володя слушать это не хотел, считал, что я потакаю Быкову, защищаю его от Володиных справедливых нареканий». Богомолов-то знал, что в действительности сочинитель — он сам, поэтому так болезненно реагировал на быковское признание в «сочинительстве». И хотел своеобразно «уравнять» его с собой, навязав автору «Мертвым не больно» и «Сотникова» литературные источники о войне — книги и документы. От других Богомолов требовал максимальной документальной точности в изображении войны, потому что свою войну выдумал, хотя и опираясь на документы и свидетельства фронтовиков.
Мать не знала, куда Володя исчез в начале 1943 года, думала, что погиб. Больницы и города, где лежал после того, как был сильно избит на следствии, Богомолов Ра-бичеву никогда не называл.
Абсолютно прав Леонид Николаевич Рабичев. Его роман совсем не совпадает с той правдой войны, которая есть в мемуарах Рабичева.
1—7 октября 1952 года Богомолов записал в дневнике: «Работал над повестью. Двигается очень медленно, буквально на несколько строк в день. Почему так? Надо оторваться от материала, отойти в сторону. А когда погружаешься в эпизод, то дело идет туго. В Библиотеке им. Ленина просмотрел «Огонек» и газеты за 1944 год. Для книги полезного нашел очень мало, но занятие само по себе очень нужное и полезное. В дальнейшем при работе над произведениями нужно будет обязательно заглядывать в газеты и журналы военного времени».
Здесь бросается в глаза, что писатель просмотрел в библиотеке прессу за 1944 год в надежде найти там материал для повести. Создается впечатление, что в свое время он был лишен возможности их читать — иначе бы должен был знать, что в них публиковали то, что для повести никак не пригодиться. Быть может, в это время он находился в тюрьме или в психиатрической больнице?
Или вот еще запись от 16 сентября 1953 года: «Сегодня случайно обнаружил, что действие повести, которую я пишу, происходит на границе Белоруссии и Литвы — левобережье Немана, то есть там, куда поехала отдыхать моя сестра — в Друскеники. Так как я не смогу в этом году там побывать, срочно отправил ей письмо с просьбой внимательно посмотреть, запомнить и записать то, что мне пригодится для работы, и не со слов экскурсоводов, а как живое восприятие очевидца:
1. Характерные черты, детали, приметы тех мест (в строениях, селениях, дорогах и людях). Характерное и типичное только для тех мест.
2. Лес. Какие породы деревьев, густота и вид его в начале и конце сентября.
3. Характерное во внешнем виде маленьких станций (Поречье, Саново, Марциканцы, Варена и т. д.).
4. Внешний вид деревень, особенно характерные признаки домов этой местности. Отличие от России.
5. Правобережье и левобережье Немана в этом районе.
6. Фотографии тех мест, любые открытки — современные или старинные».
Из данной записи очевидно, что в этих местах Богомолов во время войны не бывал и судил о местности по фотографиям, открыткам да рассказам сестры и собственной позднейшим поездкам по этим местам — в сентябре 1954-го, в августе сентябре 1956-го и в августе 1958 года. Во время поездки 1956 года он попал в поле зрения местных чекистов, когда закопал в лесу пустой ящик — чтобы почувствовать психологию шпиона, закапывающего рацию.
В дневниковых записях, посвященных этой поездке, нашли отражение эпизоды из будто бы военного прошлого Богомолова. В частности, он писал: «Минск встречает неприветливо — дождем… Особенно хорош проспект им. Сталина, бывшая Советская улица. Иду проспектом на Комаровку, на базар, где я не был 11 лет, т. е. с лета 1944 года.
Вспоминаю Аббасова, солдат взвода и лейтенанта, который заболел гонореей, чтобы не ехать на фронт. На базаре народу мало, цены соответственно высокие. Ем зеленые и дорогие яблоки, отправляюсь трамваем на Старо-Виленскую.
Знакомый район, знакомые улицы. Много новых зданий, но улицы я узнаю. В доме № 14, кв. 2 я хотел найти сослуживца, но увы… А как хотелось расспросить о старых знакомых и товарищах.
Купаюсь на озере и возвращаюсь. По дороге захожу на Мопровскую — ул. Мопра, 95 — и несколько минут разглядываю это здание, такое знакомое и изменившееся. Теперь в нем живут: грязь и беспорядок во дворе; на балконах — бабы, во дворе — сарайчики. Старо-Слободской и Старо-Виленской прохожу на Торговую, стараюсь найти новое здание Управления, которое в 1945 году строили баптисты. Прошел несколько кварталов, наконец вижу нечто похожее. Подхожу. С двумя створками металлические ворота, в окне у подъезда — солдаты. Решаю зайти сюда завтра».
В данном случае свидетельства Богомолова довольно путаны. Он утверждает, что был в Минске летом 1944 года и одновременно 11 лет назад, т. е. летом 45-го. При этом вспоминает некоего Аббасова и лейтенанта, который подцепил венерическую болезнь, чтобы не ехать на фронт. Раз речь идет о фронте, то действие должно происходить летом 44-го. Но тут же упоминается, что здание контрразведки «Смерш» в 45-м строили заключенные баптисты. Также бросается в глаза, что данные об однополчанах чрезвычайно неконкретные, не допускающие их персональной идентификации. Вполне вероятным кажется, что Войтинский-Богомолов сумел убедить себя в реальности им же придуманной военной биографии, и в соответствии с ней делал записи в дневнике. Но поскольку записи не предназначались для печати, точную хронологию он не выдерживал.
Еще бросается в глаза, что во всех рассказах Богомолова он всегда выглядит в самом лучшем свете, собеседники неизменно им восхищаются, отдают им должное. Думаю, таким образом Владимир Осипович преодолевал глубокий, с детских лет, комплекс неполноценности. Для того, чтобы еще надежней его преодолеть, писатель настаивал, что у него всего семь классов образования и с гордостью говорил: «Мои главные учителя — деревенский дед и сержанты Отечественной войны… Я сам знаю: мне внутренней культуры не хватает и внешнего воспитания. А ко мне генералы из внешней разведки за советом приезжают». Вот, дескать, я какой, университетов, и даже полной средней школы не заканчивал, а сумел выбиться во всемирно известные писатели.
Понятно, почему он не разрешал себя фотографировать, не

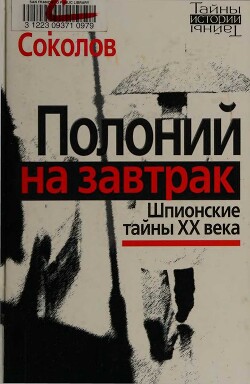
![Вальтер Шелленберг - Мемуары [Лабиринт]](https://cdn.my-library.info/books/263399/263399.jpg)