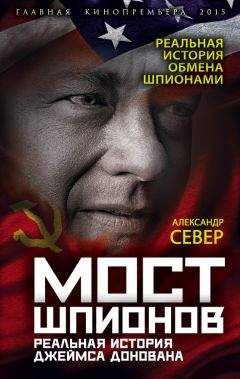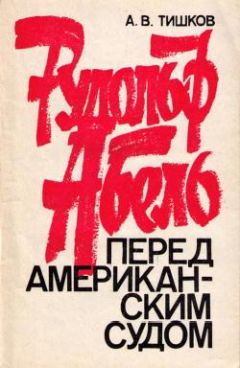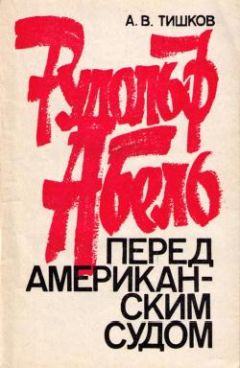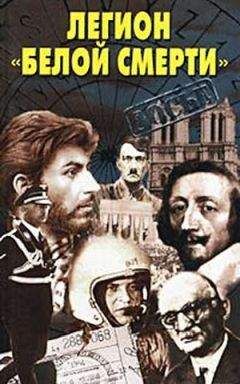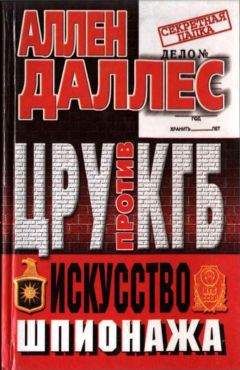Закончив читать этот документ, начальник тюрьмы показал подпись заместителя министра внутренних дел. При этом он сказал, что счастлив поздравить бывшего заключенного с освобождением и желает удачи. Остальные тоже присоединились к нему.
Наконец, наступило для Молодого время начать путь к свободе. Старший полицейский чин, который должен был сопровождать его до самолета, извиняющимся голосом сообщил, что ему приказано надеть на освобожденного арестанта наручники, хотя он сам не видит в этом никакой необходимости в данных обстоятельствах.
Конон попрощался с начальником тюрьмы Харрисом, поблагодарив за человечное отношение к нему. Харрис промолчал в ответ и лишь пожелал счастливого пути. Напоследок он пожал своему бывшему подопечному руку и неожиданно сказал по-русски: «До свидания»…
В тюремном дворе Молодого усадили на заднее сиденье одной из ожидавших там машин. С двух сторон от него сели полицейские в штатском. Один – старший чин, а другой сравнительно молодой сыщик, к которому Конон был прикован наручниками. Рядом с шофером пристроился один из руководящих работников английской контрразведки. Автомобиль со всей компанией выехал через тюремные ворота. За воротами к ним присоединилась вторая машина. Заметив это, Молодый спросил старшего полицейского:
– Неужели вы действительно думаете, что я брошусь назад и попытаюсь ворваться в вашу тюрьму?
– Я этого не думаю, – ответил тот. – Вторая машина сопровождает нас на случай поломки нашего автомобиля. Мы должны прибыть на аэродром точно в назначенное время. Машина мчалась по хорошо знакомым Молодому местам. Когда съехали с автострады, он понял, что его везут на военный аэродром Нортхолт. На аэродром въехали через специальные ворота с надписью «Для особо важных лиц». Моторы ожидавшего самолета военной транспортной авиации уже были запущены и работали на малых оборотах. Автомашина подъехала прямо к трапу. Водитель достал из багажника два ящика с имуществом Конона и отнес их в самолет. А в салоне его ждали новые телохранители – двое здоровенных парней в штатском. Контрразведчик снял с Молодого наручники и, передав его «штатским», удалился из самолета. Дверь самолета закрыл полковник королевских военно-воздушных сил. Не успели оттащить трап, как моторы взвыли и лайнер стал выруливать на взлетную дорожку. В салоне появился полковник. Встав по стойке «смирно», он отрапортовал Молодому о маршруте и продолжительности полета, а также об ожидавшей в пути погоде. По-видимому, он ничего не знал и думал, что Конон действительно «особо важное лицо». Один из телохранителей принялся украдкой махать ему рукой, пытаясь остановить его рапорт. Но все было безуспешным. Отрапортовав до конца, полковник предложил выпить кофе, пока будет приготовлен обед. Молодый с удовольствием выпил чашку настоящего кофе, с нетерпением ожидая обещанного обеда…
Примерно через три часа после вылета самолет приземлился на авиабазе Гатов в английском секторе Западного Берлина. Охранники нервничали все больше и больше. Старший предупредил Молодого, что они вооружены и имеют приказ стрелять, если «сэр попытается бежать». Бормоча что-то о том, что приказ есть приказ, старший телохранитель вновь надел на Конона наручники перед тем, как он вышел из самолета. В это время в кабине появился полковник, у которого чуть было не отвалилась челюсть от одной мысли, что он прислуживал заключенному…
…Ну а потом автомобиль с Молодым и компанией миновал западноберлинский контрольный пропускной пункт и, не останавливаясь, въехал в нейтральную зону. Было пять часов двадцать пять минут утра, а обмен был назначен на пять тридцать. Машина прибыла на пять минут раньше срока. Пришлось немного подождать. Дымка рассеивалась.
Ровно за тридцать секунд до назначенного времени поднялся шлагбаум на границе Германской Демократической Республики. Оттуда выехала автомашина. Она развернулась и остановилась на левой стороне шоссе. С англичанами была достигнута договоренность считать середину шоссе условной границей. Там даже была проведена белая линия длиною в несколько метров. Из подъехавшей машины вышел один человек. Молодый сразу же узнал его. Это был один из старых коллег по разведке. Он приблизился к машине с очень важным выражением на лице и сделал вид, что впервые увидел Молодого. Из другой машины на противоположной стороне шоссе вышли четыре человека. Среди них был и Винн. Он выглядел усталым и вроде бы немного испуганным, а может быть, это только показалось Молодому…
Участники обмена с обеих сторон построились лицом друг к другу вдоль осевой линии шоссе. Советский консул произнес слово «обмен» на русском и английском языках, и Конон оказался в машине, где уже сидели свои. Автомобиль умчался на территорию Германской Демократической Республики. Миновав домик пограничного контрольного пункта, он остановился. Из багажника вынули чемоданы Винна и отнесли их за шлагбаум, чтобы обменять на багаж Молодого…
Источник: Колосов Л., Молодой Т. Мертвый сезон: конец легенды. – М., 1998. – С. 188–194, 197–202.
Приложение 2. Гревилл Винн
Произнеся формулу: «Именем Союза Советских Социалистических Республик», судья зачитывает приговор Военной коллегии Верховного суда СССР, который начинается с краткого перечня преступлений, совершенных обоими подсудимыми, и заканчивается так:
«Олег Владимирович Пеньковский, виновный в измене Родине, приговаривается к высшей мере наказания – расстрелу, с полной конфискацией имущества.
Гревил Мейнард Винн, виновный в шпионаже, приговаривается к лишению свободы сроком на восемь лет, с отбытием первых трех лет в тюрьме и последующих – в исправительно-трудовой колонии строгого режима».
Услышав приговор Алексу (Олегу Пеньковскому – прим. авт.), толпа разражается бурными аплодисментами, слышны радостные выкрики. Алекс неподвижно стоит лицом к залу. При оглашении приговора мне проносится шумок одобрения, но хлопают уже меньше: представители трудящихся Москвы пришли сюда не ради меня.
Алекса выводят из зала. Больше я его никогда не увижу.
Меня ведут в приемную, где вскоре появляется Шейла (супруга – прим. авт.).
На свидание нам дают час. Мы обнимаемся и садимся, оба молчим, не зная, что сказать друг другу. Да и что можно сказать? Наконец она все-таки прерывает молчание: рассказывает о том, что по совету сопровождавшего ее английского дипломата, опасавшегося враждебной реакции толпы, не была в зале во время оглашения приговора, а услышала его в вестибюле по громкоговорителю.
Она не делает никаких комментариев, не пытается подбодрить меня, и я признателен ей за это. То, что нам предстоит, – ей и мне – слишком значительно, слишком ужасно, чтобы это можно было выразить словами. И ничего нельзя исправить. Поэтому мы говорим о всяких мелочах.
Наше свидание подходит к концу. Я не осмеливаюсь поцеловать Шейлу на прощание – только прикасаюсь своей щекой к ее и долго смотрю ей в глаза. Потом меня уводят.
И вот я снова на Лубянке. Десять дней в одиночной камере. Меня никто не посещает и не допрашивает. Больше всего я думаю об Алексе: мне кажется, что он еще жив, что, если бы он умер, я бы обязательно это почувствовал….
Я ничего не вижу, потому что у меня закрыты глаза.
Надо поднять веки: я лежу на койке во Владимирской тюрьме. Женщина-врач кладет на тележку кислородную маску и склоняется надо мной. В руку мне вонзается игла.
Значит, они не хотят, чтобы я умер! Такова моя первая мысль. Вывод очевиден: что бы они ни делали, что бы со мной ни происходило, мое положение в корне отличается от положения других заключенных. Мне приносят еду – даже дают мясные кубики. И еще несколько таблеток из тех витаминов, которые прислала Шейла. Меня держат в постели и каждый день делают уколы. Качество пищи улучшается: в моем рационе появляется мясо. Конечно, это не то, что называют мясом на Западе, но все-таки.
Я также получаю молоко и белый хлеб. Наконец, мне дают книги и английские журналы (с вырезанной фоторекламой – чтобы тюремщики не видели, как загнивают на Западе) плюс бумагу и карандаш, чтобы я мог написать домой.
Но самое главное – мне не дают умереть. Я по-прежнему все еще кожа да кости и изможден до такой степени, что, когда меня после недельного пребывания в кровати хотят вывести на прогулку, я едва не теряю сознание, встав на ноги. Но я жив – и мне дадут жить. Крошечный огонек, который еще теплится во мне, не задуют.
Словом, я более или менее доволен своим нынешним положением, как вдруг у меня появляется сокамерник: худосочный, отталкивающего вида русский юноша. Вероятно, опять подсадной. Имя у него трудное, поэтому я называю его Макс. Он не нравится мне с первого же взгляда. У него близко поставленные глаза и скулящий голос.
Мысль о том, что нам придется пользоваться одной парашей, вызывает у меня отвращение. Я жалуюсь надзирателю, но тот советует подать заявление Шевченко. Заявление я подаю, но ничего не происходит. Тогда я решаю избавиться от Макса сам. Лучший способ – затеять драку.