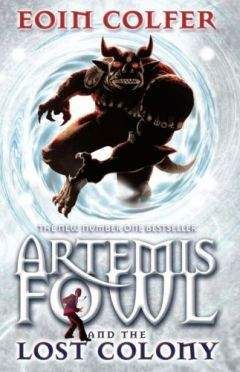«Великолепно! — воскликнул Пастернак. — Вы угадали!»
Де Пруайяр показалось, что их с Пастернаком дружба зародилась именно после ее простодушного ответа. В январе и феврале они встретились еще несколько раз. Пастернак показал де Пруайяр договор с Фельтринелли, и де Пруайяр усомнилась в том, что такой молодой издатель, который к тому же не говорит по-русски, сумеет по-настоящему оценить роман. Пастернак дал де Пруайяр написанную от руки доверенность на ведение его литературных дел. Такой шаг не мог не удивить и огорчить Фельтринелли.
Позже де Пруайяр попытается оспорить права на все русские издания «Доктора Живаго», на издание некоторых ранних произведений Пастернака и, на основе еще одного письма Пастернака, право распоряжаться всеми его гонорарами. Фельтринелли почувствовал себя преданным. «Оказаться лишенным вашего доверия[717], поддержки вашего авторитета — неожиданный сюрприз, к тому же очень болезненный». Пастернак, возможно, считал, что де Пруайяр поддержит Фельтринелли, но итальянец и француженка относились друг к другу неприязненно. Почти весь 1959 год прошел в тяжелой переписке; они пытались распутать узел.
«Я безмерно все запутал, — писал им Пастернак. — Поэтому простите меня оба».
Путаница усугублялась тем, что вести переписку из Переделкина было трудно. Для обсуждения издательских и финансовых вопросов и Пастернак, и его друзья на Западе часто пользовались оказией, и письма добирались до адресатов неделями и месяцами. «Вести дела, принимать решения и приходить к соглашению посредством почты, которая так ненадежна, медленна и нерадива, при таких расстояниях, с такими сжатыми сроками — это пытка, неразрешимая проблема, ужасное несчастье», — писал Пастернак.
«Доктор Живаго» стал предметом постоянного внимания и шумихи на Западе. Ведущий американский критик Эдмунд Уилсон в ноябре написал длинную восторженную рецензию в «Ньюйоркере», хотя и раскритиковал перевод романа на английский язык: «Доктор Живаго» станет, я верю, одним из величайших событий[718] в литературной и нравственной истории человечества. Никто не мог бы написать его в тоталитарном государстве и выпустить в свободное плавание по всему миру, если бы не обладал мужеством гения». Когда в начале 1959 года США посетил А. И. Микоян, заместитель председателя Совета министров СССР, он пошел смотреть достопримечательности; сохранилась его знаменитая фотография[719] у витрины книжного магазина, уставленного экземплярами «Доктора Живаго». Микоян с ошеломленным видом смотрит на витрину. Позже, рядом с рестораном, где давала ужин Ассоциация кинематографистов, Микоян увидел демонстрацию. Протестующие несли плакаты: «Страдаете бредом[720] коммунизма? Обратитесь к доктору Живаго»…
В марте 1959 года в США было продано 850 тысяч экземпляров романа[721]. Лондонская «Санди таймс» назвала «Доктора Живаго» романом года. Приехавший к Пастернаку уругвайский журналист сказал через переводчика: «Пастернак в Уругвае в такой моде[722], что девушки из аристократических семей считают совершенно необходимым, идя в гости или на прием, держать в руках книжку «Доктора Живаго». На антикоммунистической демонстрации католической молодежи в Вене над трибуной подняли огромную фотографию Пастернака. «Нью-Йорк таймс» сообщала, что «с помощью фотомонтажа[723] все выглядело так, будто он [Пастернак] стоит за колючей проволокой. Издали казалось, будто на нем терновый венец».
Не все считали Пастернака героем. «Доктор Живаго» очень не нравился Давиду Бен-Гуриону, премьер-министру Израиля. Его ужаснула высказанная в романе точка зрения об ассимиляции евреев. Он назвал роман «одной из самых презренных книг о евреях[724], написанных человеком еврейского происхождения». Он добавил: «…жаль, что такая книга сошла с пера человека, которому хватило мужества противостоять своему правительству».
Церемония вручения Нобелевских премий проходила 10 декабря 1958 года в Концертном зале Стокгольма, куда собрались две тысячи почетных гостей, в том числе шведский король Густав VI и советский посол. Советские ученые — лауреаты премии, а также другие лауреаты сидели в одном ряду на креслах, обитых красным плюшем; Игорь Тамм с широкой улыбкой так низко поклонился королю[725], что его медаль чуть не упала. Ближе к концу церемонии Эстерлинг просто отметил Пастернака, сказав, что «лауреат, как известно, объявил, что не желает получать премию. Этот отказ никоим образом не лишает награду юридической силы. Шведской академии остается лишь сожалеть, что принять премию не было возможности».
Его выслушали в полном молчании.
В следующие недели после письма в «Правду» Пастернака окружали журналисты; шумиха конца октября — начала ноября понемногу слабела.
«Гроза еще не закончилась[726], не горюйте, будьте тверды и спокойны. Устал, люблю, верю в будущее», — написал Пастернак в телеграмме сестрам в середине ноября. Он очень устал. На следующий день он писал кузине: «Лучше всего было бы умереть[727] прямо сейчас, но я, наверное, не наложу на себя руки». Однако его дух понемногу возрождался. Его возмущали мелочность властей и продолжающиеся оскорбления старых врагов вроде Суркова. В декабре, на очередном съезде писателей, Сурков заговорил о «прогнившем внутреннем эмигранте»[728] Пастернаке и назвал Пастернака «отступником, которого наш праведный гнев изгнал из славной семьи советских писателей». Кроме того, Сурков вынужден был признать, что исключение Пастернака из Союза писателей «сбило с толку прогрессивных писателей[729] и поселило в их сердцах сомнение в справедливости нашего решения».
В черновике письма в ЦК, перехваченном госбезопасностью, Пастернак жаловался на «верховную власть»: «Я понимаю, что ничего не могу требовать[730], что у меня нет прав, что меня можно раздавить, как мелкое насекомое… Я был глуп, ожидая великодушия после тех двух писем».
В январе 1959 года Пастернак сказал британскому журналисту Алану Морею Уильямсу: «Технократы хотят, чтобы писатели стали для них своего рода властью. Они хотят, чтобы мы производили работу, которую можно использовать для самых разных социальных нужд, как радиоактивные изотопы[731]… Союз писателей хочет, чтобы я ползал перед ним на коленях — но они меня не заставят». Еще одному журналисту он сказал, что «в каждом поколении[732] должен быть дурак, который будет говорить правду, как он ее понимает».
В письме к Фельтринелли он демонстрировал прежний пыл, называя свою жизнь «печальной, смертельно опасной[733], но полной важности и ответственности, головокружительной… и стоящей того, чтобы принять ее и жить в радости и благодарности Богу».
Подтачивали Пастернака и напряженные отношения с Ивинской. Он уже говорил, что хочет уйти от жены и провести зиму в Тарусе со своей возлюбленной. К. Г. Паустовский предложил им свой дом. Ивинская больше, чем когда бы то ни было, хотела, чтобы они поженились. Но в последнюю минуту Пастернак передумал. Он сказал, что не хочет ранить тех, кто «хотел лишь сохранить видимость той жизни, к которой они привыкли». Он сказал Ивинской, что она — «его правая рука» и он весь с нею.
«Чего тебе еще нужно[734]?» — спрашивал он.
«Я разозлилась не на шутку, — вспоминала Ивинская. — Интуитивно я догадывалась, что больше, чем кто бы то ни было, нуждаюсь в защите именем Пастернака». Она уехала в Москву.
В последующие дни Пастернак написал несколько стихотворений, в том числе «Нобелевскую премию». Начиналось оно так:
Я пропал, как зверь в загоне[735].
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони
Мне наружу хода нет.
Пастернак показал стихотворение Чуковскому; тот счел, что это не «линия», а «настроение», что стихи созданы «под влиянием минуты». Пастернак передал копию стихотворения Энтони Брауну, корреспонденту «Дейли мейл», который приехал к нему 30 января, чтобы взять интервью. После того как «Нобелевскую премию» опубликовали, в мире снова заволновались. «Дейли мейл» объявила, что «Пастернак изгой», под заголовком: «Сюрприз Пастернака: его мучения раскрыты в «Нобелевской премии».
«Я белый альбатрос[736], — говорил Пастернак журналисту. — Как вам известно, мистер Браун, альбатросы бывают только черными. Я исключение, индивидуалист в обществе, предназначенном не для единиц, но для масс».
Пастернак попросил журналиста передать стихотворение Жаклин де Пруайяр; он не собирался его публиковать. Другим репортерам, приезжавшим к нему после 10 февраля, в день его рождения, он жаловался: «Стихотворение нельзя было публиковать… Теперь я чувствую себя как девушка, которая любуется собою в зеркале. И потом, его плохо перевели».