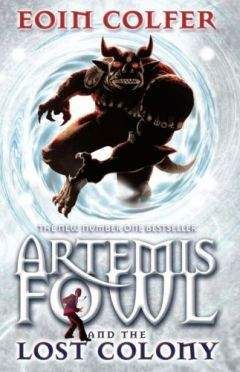Пастернак признавался, что написал «Нобелевскую премию» в минуту уныния, которое уже прошло. Его жена была в ярости.
«Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не доверял репортерам? — спрашивала она и угрожала уйти от него.
Пастернак слишком бурно негодовал из-за «вероломства» Брауна — возможно, он помнил о том, что его дом прослушивается. В начале 1959 года он уже не мог уверять власти в том, что не знал о последствиях передачи своего произведения неизвестным иностранцам. Передача «написанного в антисоветском духе»[737] стихотворения так скоро после скандала с Нобелевской премией, возможно, была безрассудным поступком, впрочем весьма характерным для Пастернака. «Так поступить мог только сумасшедший, — писал Чуковский, — и лицо у Пастернака «с сумасшедшинкой».
Глава 14. «Студенческие каникулы с русскими»
На Западе уже не сомневались в том, что отказ Пастернака от Нобелевской премии и покаянные письма Хрущеву и в газету «Правда» были вырваны угрозами. Власти, как и ожидалось, отозвались на статью в «Дейли мейл» с яростью. Поликарпов сказал Ивинской, что Пастернак должен оборвать все связи с иностранной прессой. Кроме того, писателю «посоветовали» уехать из Москвы на время визита британского премьер-министра Гарольда Макмиллана, чтобы неизбежная свита репортеров не добралась до Переделкина.
Несмотря на возмущение Ивинской, Пастернак принял приглашение Н. А. Табидзе, которая приглашала их с Зинаидой к себе в Тбилиси. Ивинская уехала в Ленинград «холодная и чужая»[738]. Грузия стала прекрасным местом для передышки. Из дома Табидзе открывался вид на город, на далекое Дарьяльское ущелье и гору Казбек. Табидзе напомнила Пастернаку, что он третий русский поэт, после Пушкина и Лермонтова, которого приютила Грузия. Она приготовила ему отдельную комнату. Пастернак целыми днями читал Пруста, вынашивал замысел нового произведения, действие которого отчасти должно было происходить в Грузии, и гулял по холодным, мощенным булыжниками улицам старого города. Вечерами в квартире Табидзе собирались актеры и писатели; они ели и пили с Пастернаком. Художник Ладо Гудиашвили устроил прием, несмотря на предупреждения властей, что Пастернака ни в коем случае нельзя чествовать. Поэт читал свои стихи при свечах, среди ярких, живых картин, висевших на стенах. Пастернак записал в блокноте Гудиашвили[739] строчки из стихотворения «После грозы»:
Рука художника еще всесильней
Со всех вещей смывает грязь и пыль.
Преображенней из его красильни
Выходят жизнь, действительность и быль.
Пастернак часто писал Ивинской; ему хотелось покончить со «шрамами и скандалами». Он говорил о необходимости «сжаться, успокоиться и писать впрок»[740]. Он упрекал себя за то, что вовлек Ивинскую «во все эти ужасные дела».
«Вмешивая тебя в эти страшные истории, я набрасываю на тебя большую тень и подвергаю ужасной опасности. Это не по-мужски и подло», — писал он. Он обращался к ней по-своему: «Олюша, золотая моя девочка[741], я крепко целую тебя. Я связан с тобою жизнью, солнышком, светящим в окно, чувством сожаления и грусти, сознанием своей вины (о, не перед тобою, конечно, а перед всеми), сознанием своей слабости и недостаточности сделанного мною до сих пор, уверенностью в том, что нужно напрячься и сдвинуть горы, чтобы не обмануть друзей и не оказаться самозванцем. И чем лучше нас с тобой все остальные вокруг меня, и чем бережнее я к ним, и чем они мне милее, тем больше и глубже я тебя люблю, тем виноватее и печальнее. Я тебя обнимаю страшно-страшно крепко, и почти падаю от нежности, и почти плачу».
В Грузии он немного увлекся 19-летней дочерью Гудиашвили Чухуртмой, черноволосой студенткой балетного училища. Пастернак упал перед ней на колени[742]. Он читал ей свои стихи; они ходили гулять, посещали раскопки поселения X века в окрестностях Тбилиси. Пастернак думал написать роман о геологах, о раннем христианстве в Грузии. Ладо Гудиашвили считал, что его дочь, склонная к депрессии, расцвела от внимания поэта. В письме к Чухуртме после возвращения в Москву Пастернак признавался, что она тронула его. «Не хочу говорить вам глупости[743], не хочу обижать ни вашу серьезность, ни мою жизнь чем-то нелепым или неподходящим, но это я должен вам сказать. Если к тому времени, как я умру, вы еще не забудете меня и я, каким-то образом, еще буду вам нужен, помните, что я считал вас среди лучших своих друзей и дал вам право оплакивать меня и думать обо мне как о близком человеке».
* * *Поездка напомнила и о жестокости государства. Галактиона Табидзе, пожилого грузинского поэта, двоюродного брата убитого Тициана Табидзе, власти вынудили[744] написать письмо в газету с осуждением Пастернака. Его психическое здоровье было подорвано. Последнее требование стало для Табидзе невыносимым. Он выбросился из окна больничной палаты.
14 марта, вскоре после возвращения в Россию, Пастернака вызвали в Москву на встречу с генеральным прокурором Советского Союза Романом Руденко, который выступал главным обвинителем от Советского Союза на Нюрнбергском процессе. После выхода стихотворения «Нобелевская премия» Руденко рекомендовал лишить Пастернака советского гражданства и депортировать, но Президиум Верховного Совета СССР, обладавший такими полномочиями, не одобрил крайней меры. Однако Руденко уполномочен был допросить писателя. Он обвинил Пастернака в «двурушничестве» из-за того, что тот передал свое стихотворение Брауну. Он угрожал Пастернаку обвинением в государственной измене. Пастернак ответил, что проявил «роковую неосторожность»[745], но уверял, что не рассчитывал на то, что стихотворение будет опубликовано, — если верить протоколу допроса, скрепленному подписью Пастернака. «Я осуждаю эти свои действия и отчетливо понимаю, что они влекут за собой мою ответственность по закону как советского гражданина», — признавал Пастернак в протоколе. Руденко написал, что на допросе Пастернак «вел себя трусливо».
Однако Ивинской сам Пастернак рассказывал обо всем несколько по-другому. «Ты знаешь, что я разговаривал с человеком без шеи? — спросил он после того, как Руденко попросил его подписать заявление, что он не будет встречаться с иностранцами, но он отказался. — Окружите меня и не пропускайте иностранцев, если хотите, — ответил Пастернак, — но все, что я могу подтвердить, — то, что я прочел ваше послание. Никаких обещаний давать не могу». Руденко никаких дальнейших действий не предпринял. Видимо, представителям власти не хотелось раздувать скандал вокруг Пастернака откровенными преследованиями. Исайя Берлин считал, что Пастернак похож «на Толстого в 1903 году[746], когда все распространители его учения были наказаны государством, но сам старик оказался слишком знаменитым… чтобы его преследовала полиция».
Вернувшись домой, Пастернак тем не менее повесил на парадной и боковой дверях в Переделкине таблички на английском, французском и немецком языках: «Пастернак не принимает[747], ему запрещено принимать иностранцев». Зинаида также продолжала настаивать, чтобы он не принимал иностранцев. «Нужно прекратить принимать эту шваль[748], — говорила она, — и впредь они перешагнут порог дома только через мой труп».
После того как таблички разобрали на сувениры, повесили другие: «Журналисты и прочие, пожалуйста, уходите[749]. Я занят». Когда на Пасху Пастернака навестила журналистка Патриша Блейк, Пастернак беседовал с ней, стоя на верхней ступеньке крыльца; он не пригласил ее в дом.
«Пожалуйста, простите меня за ужасную грубость, — сказал он и объяснил, что у него серьезные неприятности и ему запрещено принимать иностранцев. Хотя Блейк нашла его «поразительно молодым» для шестидесятидевятилетнего человека, ее потрясла огромная усталость у него на лице, в его осанке. Когда она покинула дачу, за ней к станции следовали «люди в штатском». К шведскому профессору Нильсу Оке Нильссону еще на станции подошел агент и велел возвращаться в Москву. Вынужденная изоляция усугублялась еще и тем, что Пастернаку запретили посещать массовые мероприятия в Москве. Круг его друзей сильно сократился, продолжалась слежка; агенты КГБ записывали имена гостей, которые приехали к нему на день рождения на дачу.
Попытки ЦРУ эксплуатировать[750] «Доктора Живаго» возобновились с новой силой после скандала вокруг Нобелевской премии. ЦРУ по-прежнему старалось контрабандой доставить «Живаго» на русском языке в Советский Союз; кроме того, продолжались покупки издания на английском языке для его бесплатного распространения. Сначала сотрудники ЦРУ раздавали роман только негражданам США, которые ехали в Советский Союз — и предпочтительно летели на самолете, а не ехали на поезде. Было установлено, что авиапассажиров обыскивают не так тщательно. На тот случай, если их задержат и обыщут, туристам велено было говорить, что они купили книгу у русского эмигранта или получили на Брюссельской выставке; таким образом, ввоз книги никак не связывался с правительством США.