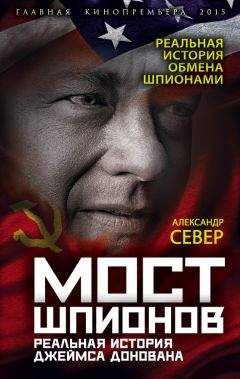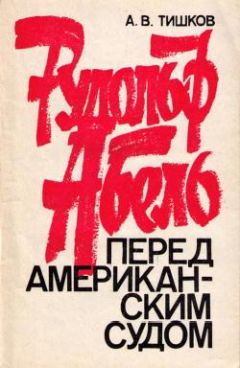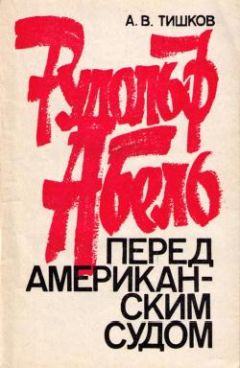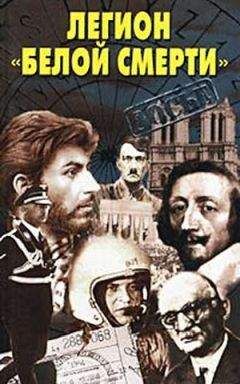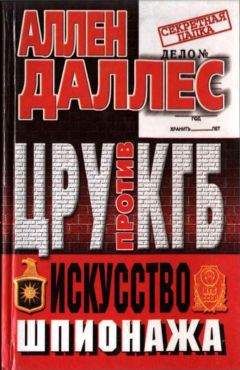Наконец, я рассказал Шишкину о загадочном телефонном сообщении, полученном ночью от Фогеля, и о том, что оно было передано в Вашингтон и сорвало все наши планы. Я передал Шишкину стенограмму этого сообщения. Он был удивлен:
– Какое странное сообщение! Что же оно означает?
Я ответил, что для выяснения этого я и нанес столь ранний визит Шишкину, поскольку сообщение было получено по телефону, номер которого я дал только ему во время нашей первой встречи в субботу.
Я выразил надежду, что Советское правительство не намерено отказываться от своей позиции, которую оно изложило в полученном из Москвы накануне сообщении. Ибо, полностью полагаясь на это сообщение, я окончательно договорился с Фогелем и мисс Абель и рекомендовал этот план Вашингтону, который его одобрил. Я добавил, что теперь уже все готово для доставки Абеля в Берлин для обмена.
Шишкин откинулся на спинку стула и торжественно заявил, что Советское правительство не имеет привычки менять однажды занятую им позицию. Он сказал, что хочет снова подтвердить готовность его правительства обменять Пауэрса на Абеля, но должен еще раз подчеркнуть, что вопрос о Фредерике Прайоре не входит в компетенцию Советского правительства.
Подумав минуту, Шишкин сказал:
– Мне кажется, коль скоро вы получили это сообщение от Фогеля, вы должны к нему же и пойти в контору. После разговора с ним вы можете, если пожелаете, вернуться сюда сегодня в любое время дня.
Я спросил, не может ли он позвонить Фогелю и, чтобы ускорить дело, вызвать его сюда, в советское посольство. Шишкин ответил, что он иногда встречается по официальным делам с министром юстиции Восточной Германии, но, к сожалению, беседовать с частным восточногерманским адвокатом для советского официального представителя было бы крайне неуместно.
– По прошлой встрече с Фогелем я знаю, что во время переговоров с ним мне следовало бы иметь переводчика, – сказал я, – и в этом смысле ваше присутствие здесь на встрече было бы очень ценным. К тому же мне придется ехать на такси в его контору одному, и я не могу заплатить за проезд, так как у меня только несколько западногерманских марок, а здесь они считаются контрабандной валютой.
Шишкин ответил, что лично он не может помочь мне в качестве переводчика, но уверен, что у меня не будет никаких трудностей.
После бесплодного пятнадцатиминутного ожидания такси у здания посольства я пошел пешком по снежным сугробам к вокзалу на Фридрихштрассе, где и нашел такси. Мы доехали до конторы Фогеля, и шофер молча взял мои западногерманские марки. В конторе я увидел только Дривса. Он сказал, что мисс Абель не придет. Она расстроена возникшими трудностями, о которых сообщил Фогель, и к тому же «ухаживает за матерью».
Дривс начал читать пространное заявление на английском языке, которое, по его словам, было написано мисс Абель. Я перебил его, сказав, что прочту это заявление сам и возьму его с собой. Фогель не согласился, и тогда я сказал, что должен снять копию с заявления. Этот документ, написанный по-английски от руки на дешевой линованной бумаге, гласил следующее:
«Вчера вечером, после того как мы расстались, меня вызвал к себе г-н Фогель и сообщил мне неблагоприятные известия.
Г-н Фогель видел представителя канцелярии генерального прокурора, и, когда он упомянул о ваших словах, будто вы получили согласие Советского Союза на обмен известного нам лица еще на кого-то, этот представитель был крайне удивлен. Он подчеркнул, что вначале они согласились на обмен Прайора на Абеля, то есть одного человека на одного. Теперь, видимо, условия обмена меняются, и представитель канцелярии предвидит возникновение известных осложнений. ГДР согласилась обменять Прайора на Абеля, и только. Эта договоренность должна быть выполнена точно.
В противном случае правительство ГДР считает себя вправе действовать по собственному усмотрению и не может дать согласие на обмен одного лица на двоих, когда одно из них к тому же находится в другой стране. Г-н Фогель просил меня сообщить вам о его беспокойстве по этому поводу, так как он не в состоянии отсрочить процесс Прайора, а в канцелярии генерального прокурора ему дали понять, что в случае отказа американцев обменять Абеля на Прайора немцы начнут широковещательный судебный процесс, ибо у них имеется достаточно улик, чтобы осудить Прайора. Это, как вы понимаете, может отрицательно повлиять на авторитет США и затронет в особенности семью Прайора».
Лишь только Дривс кончил читать, я гневно выразил свое возмущение и назвал все это послание «злонамеренной чепухой». Я сказал, что и восточногерманское правительство, и Фогель действовал явно недобросовестно и что у моего руководства и у меня лично нет времени для игры с ними в прятки. О том, чтобы обменять Абеля на одного лишь Прайора, подчеркнул я, не может быть и речи. Если Восточная Германия не будет придерживаться обещания, официально данного вчера в письме генерального прокурора, то мне придется прервать все переговоры и рекомендовать моему правительству отозвать меня в Нью-Йорк.
Я встал и начал надевать пальто.
Фогель поспешно нажал кнопку на своем столе. Далее все произошло, как на сцене театра. Дверь в кабинет моментально открылась, и вошел его помощник. Он стоял, вытянувшись у стола, и, кивая головой, как попугай, объявил, что Фогелю только что звонили от генерального прокурора Восточной Германии. Генеральный прокурор, как сказал этот последний из нашей труппы актеров, хочет, чтобы Фогель прибыл к нему в тринадцать часов для дальнейшего обсуждения «дела Прайора».
– Как кстати! – воскликнул Фогель, поднимаясь и взглянув на свои часы. – Останьтесь, пожалуйста, здесь, в Восточном Берлине, до окончания моей беседы. Обещаю вам, что приложу все усилия, чтобы уговорить генерального прокурора изменить свое решение.
Я сказал, что очень рано позавтракал, и мне бы хотелось, чтобы меня проводили в хороший отель, где я мог бы заказать обед. Фогелю, на мой взгляд, после беседы с генеральным прокурором удобнее прийти туда же. Фогель согласился и дал мне пятьдесят восточногерманских марок (я объяснил ему, что у меня нет денег), а затем Дривс спросил, не может ли он пойти пообедать вместе со мной. Я не возражал. Когда я уходил из конторы, Дривс задержался, «чтобы забронировать столик в ресторане» (он был почти пуст, когда мы пришли). Он, вероятно, звонил Шишкину. Фогель, оглянувшись, чтобы посмотреть, не видит ли его Дривс, поднял большие пальцы рук и сказал мне по-немецки: «Не отступать!» Он явно старался угодить обеим сторонам. Затем Дривс спустился вниз и мы сели в автомобиль Фогеля, новую красивую спортивную машину.
Мы отправились в ресторан на Фридрихштрассе. ресторан произвел на меня очень приятное впечатление. Выбор, судя по меню, был превосходным, но оказалось, что многих из указанных в меню блюд в ресторане нет. Мне подали хороший суп и свежий салат, за которым последовали сыр и кофе. Дривс взял что-то вроде тушеного мяса.
Пока мы обедали, Дривс держал себя очень вежливо, но все время старался выпытать мое личное мнение о том, не удастся ли обменять на Абеля Прайора. Я заявил ему, что всякие такие разговоры – это пустая трата времени. Потом он спросил, послал ли я ответ в государственный департамент, и я ответил утвердительно.
После того как я расстался с Шишкиным в посольстве, я ни разу не упомянул, что сообщение Фогеля, полученное мной накануне ночью, было передано по незарегистрированному телефону, номер которого я сообщил только Шишкину. Тем не менее во время завтрака Дривс сам сказал, что, «после того как Фогель сообщил вчера вечером Абелям плохие известия, мисс Абель, к счастью, подумала о номере телефона, который она запомнила». Он также сообщил мне, что один из деловых друзей, иностранец, оказался в это время в Восточном Берлине и, когда ему стало известно об их затруднениях, согласился позвонить из Западного Берлина и передать сообщение по телефону.
После этого Дривс как-то совершенно неожиданно спросил меня:
– Как вы думаете, почему Шишкин несколько раз настаивал на том, чтобы разговаривать с вами наедине, без нас?
Я ответил, что у меня нет ни малейшего представления об этом, и он прекратил разговор на эту тему.
В разговоре с Дривсом я заметил, что мне «очень жаль» семью Абеля, и спросил, как зовут г-жу Абель и ее дочь. Он ответил, что мать зовут Лидией, а дочь – Еленой. Я спросил, была ли Елена замужем, и он ответил:
– К сожалению, нет.
Затем он сразу же спросил, не говорил ли со мной Абель о своей семье, на что я ответил:
– У нас никогда не было для этого подходящего случая.
(Фактически, судя по прежней переписке и данным, фигурировавшим на процессе Абеля, включая микропленки с письмами, захваченными в комнате Абеля при его аресте, заявления кузена Дривса были абсолютно ложными. Как зовут мать и дочь, он перепутал, поменяв их имена. Кроме того, в одном письме, приводившемся на процессе в качестве улики и, видимо, написанном дочерью Абеля, подробно описывался ее муж.)