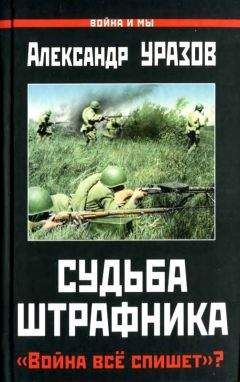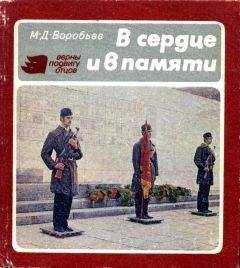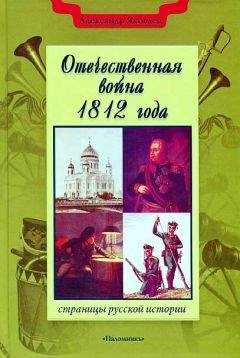Подвыпивший Кучинский потянул Олесю к входу в кинозал, открыл дверь, оттеснил билетершу со словами, что едет с фронта, и, пока он пикировался с ней, мы с Олесей проскользнули в зал. Было темно, на экране шли титры. Свободных мест в темноте не было видно. Кто-то возле меня поднялся, уступил свое место и перешел на другое. Я сел. Но на меня зашикали — посади девушку. Действительно, в суматохе я не сообразил, что надо посадить сначала ее. Я так и сделал, и теперь пнем торчал в зале. Выручила Олеся. Она схватила меня за руку, усадила на свое место, а сама уселась мне на колени и обняла за шею рукой, чтобы удержаться.
Я обнял Олесю за талию. На экране что-то мелькало, о чем-то говорили, а у меня в голове был ералаш. Еще кто-то сжалился над нами, зрители подвинулись на одно место, и мы нормально уселись. Билетерша, чтобы прекратить шум, нашла место и Кучинскому.
После кино долго бродить по Киеву было опасно, и мы вернулись домой.
Я смекнул, что Кучинский неспроста задержал меня в Киеве. Дружба дружбой, но был и дальний прицел: хорошенькой Олесе нужен был жених, ведь молодежи моего возраста осталось совсем мало.
После кино отношения между мной и Олесей вдруг усложнились, она стала стесняться меня, краснела, когда я смотрел на нее. Я тоже чувствовал себя скованно. Морочить голову девушке я не хотел, а начать за ней серьезно ухаживать и жениться не мог. Я мечтал о продолжении учебы. Со своим дипломом с отличием я хотел поступить без экзаменов в институт и стать архитектором. Да и какую семью можно строить, если кругом голод, разруха, горе? И я уклонился от роли жениха, засобирался домой.
Кучинский помог отвезти мои вещи на вокзал. По отпускным документам с помощью железнодорожной комендатуры я приобрел билет в поезд Киев — Ростов с пересадкой в Ясиноватой на Миллерово. Теперь я ехал в плацкартном вагоне один, без друзей, меня окружали незнакомые люди.
В Миллерово я приехал во втором часу ночи. Что делать: ожидать утра на станции или идти домой ночью? Я слишком много наслушался о бандитизме, грабежах, убийствах. Глупо, оставшись живым на войне, погибнуть под ножом бандита! Но все во мне кипело от нетерпения, я рвался домой после четырех лет разлуки. Казалось, что я не был дома целую вечность. Нет, я не могу сидеть в тесном, грязном, со спертым прокисшим воздухом вокзале!
Я поставил чемодан на плечо и, спотыкаясь о шпалы и камни железнодорожного полотна, пошел в темноту. Нет, я не шел — летел. Радость встречи несла меня на крыльях, страх подгонял. Я почти бежал, не чувствуя тяжести чемодана, лишь ломило плечо, немела поднятая рука, я перебрасывал чемодан на спину, но он выворачивал руку. Я остановился передохнуть, снял ремень, продел в ручку чемодана, перебросил его через плечо, вновь пошел, оступаясь на немощеной дороге. Надо пройти мимо железнодорожного моста, где, может быть, поджидают такого, как я. Но вот и улочка к моему дому. Вот и калитка. Я быстро открываю ее — не забыл, ничего не изменилось. На меня с яростным лаем бросилась собака. Я прикрылся от нее чемоданом — вдруг укусит?
— Букет, Букет! Ты что это бросаешься на своих!
Букет перестал лаять, взвизгнул и запрыгал вокруг меня, стараясь лизнуть руки.
«Букет! Неужели, не забыл? Признал? Быть того не может, — думал я. — За четыре года я так изменился во всем. Как же ты узнал?»
Я прошел в глубь двора к дому, поставил чемодан у входной двери, снял вещмешок, скатку. Посмотрел на черные и какие-то низенькие пристройки кухни, конюшни, заглянул на огород. Мне нужно было успокоиться перед встречей с родителями, сестрами. Но сердце только еще сильней рвалось из груди.
Я подошел к двери и постучал. Тихо. Постучал громче. Услышал кряхтенье мамы, ее тихий глухой голос — она с кем-то переговаривалась. Я весь затрепетал. Скрипнула дверь из комнаты в коридор.
— Кто там? — раздался негромкий, какой-то замогильный голос мамы.
«Узнает ли она меня?» — подумал я и, не меняя голоса, но уверенно сказал:
— Открывайте, это я!
— Да кто ты?
— Как кто? Я — ваш сын! Открывайте, мама! Неужели не узнаете?
— Нет, я не открою, ты не мой сын.
Спазмы комом перехватили горло.
— Мама! Да это же я! Я приехал с фронта, а вы меня не пускаете домой!
И вновь тихо. Потом:
— Может быть, ты и мой сын, но я тебя не знаю и в дом не пущу.
— Что ж мне делать? К Сенниковым идти, что ли?
— Да, идти к Сенниковым! — отвечает мать.
— Мама! Да ведь это Саша, — слышу я голос сестры.
— Замолчи! Раскаркалась!
И опять мы стоим друг против друга, разделенные дверью и временем.
— Раз ты мой сын, то подойди к окну, открой ставню, а я на тебя погляжу.
Я даже не мог сообразить, почему Зоя, узнавшая меня, не открыла дверь — мне было горько. В одном из окон щелкнул засов. Я подошел, вытянул пробой и распахнул ставни. Из-за стены в проем окна протянулась рука с лампой. И тут мама вскрикнула, и лампа начала падать. В доме раздались рыдания и причитания.
— Сыночек мой дорогой! Да что ж я у тебя за мать — сына домой не пускаю!
Выскочила Зоя, открыла дверь и повисла у меня на шее. Я вошел в комнату, обнял бросившуюся ко мне мать. Я целовал их, сам всхлипывал.
Стукнуло окно, мы оглянулись. В открытую ставню к стеклу прижалось лицо моего отца. Он был в Шарпиловке и среди ночи ушел домой, словно сердце его чуяло, что я приеду.
Дорога войны длиной в четыре года закончилась и привела меня к порогу отчего дома. Начиналась новая послевоенная жизнь с ее радостями, лишениями и огорчениями, победами и поражениями, взлетами и падениями. В общем, жизнь как жизнь, как у многих людей в то время.
Я приехал домой в отпуск на месяц и должен был возвратиться в Австрию, в город Санкт-Пельтен, для дальнейшего прохождения службы. Однако вскоре, в конце сентября 1945 года, в родительский дом приехал мой брат Иван — подполковник, начальник штаба 786-го минометного полка 235-й гаубичной бригады, которая дислоцировалась в селе Масловка под Воронежем. Он настоял на том, чтобы я не ехал в Австрию — скоро ожидалась демобилизация солдат моего возраста. Брат сообщил в запасной полк, что меня оставили служить в его бригаде, и я по истечении отпуска должен явиться в его часть. Забрал он с собой и сестру Зою.
Я служил в штабе в должности заведующего секретным делопроизводством, а потом по Указу Верховного Совета СССР от 5 августа 1946 года был демобилизован с правом жительства в городе Краснодаре. После демобилизации я неделю пробыл в Миллерово и уехал в Краснодар. Но при пересадке в Ростове-на-Дону я задержался, чтобы в строительном техникуме обменять на диплом выданную мне в июне 1941 года справку о его окончании и встретиться с однокурсниками-ростовчанами.
Первым я отыскал Петю Пономарева, остановился у него на квартире. Он после демобилизации спешил домой, ехал на тормозной площадке товарного поезда, простудился и заболел туберкулезом. Петя отговорил меня ехать в Краснодар, не хотел со мной расставаться и, наверное, втайне надеялся, что я женюсь на его сестре. Об этом начали поговаривать и их родители, и я перебрался от них в барак, где в 1937 году жил, будучи студентом первого курса техникума. Меня приютила уборщица тетя Катя, знавшая меня еще студентом.
Работал я мастером в спецконторе «Военмонтаж» при Северо-Кавказском военном округе. Мы восстанавливали жилые дома для военнослужащих, Дом офицеров на Буденновском проспекте, строили казармы, дома в Сталинграде. Продукты питания, промтовары, даже водку получали по карточкам. Вначале я недоумевал, когда слышал, что люди голодают. У меня даже оставался хлеб от пайка, составлявшего 700 граммов в день. Потом я стал укладываться в паек, потом его перестало хватать. Получу продукты на неделю, съем их за четыре дня, а три дня голодаю.
Я получал зарплату 800 рублей, а с вычетами менее 700, тогда как буханка хлеба на рынке стоила 200–220 рублей, килограмм сливочного масла — 1000–1200 рублей.
Одевался я в армейскую одежду. Шинель отец мне перекрасил в черный цвет и перешил; на ногах — солдатские сапоги.
Со своим старшим прорабом Дамаскиным ночью мы ходили ловить рыбу, чтобы успеть на работу. За опоздание на работу нам грозило до шести месяцев исправительно-трудовых работ, а за прогул — заключение с отправкой в лагеря.
В 1947 году я переехал на квартиру в центр города. В квартире над проездом во двор жила симпатичная женщина — Надежда Алексеевна Кравцова с дочерью Тамарой. Ее муж пропал без вести под Одессой.
В 1948 году я женился на Тамаре. При регистрации в ЗАГСе она наступила мне на ногу, так всю жизнь и держала меня под каблуком. Жили мы поначалу впроголодь, одевались нищенски, но это не мешало нам любить друг друга. Мы часто ходили в театр музыкальной комедии, в кино, в парк культуры и отдыха, на пляж.
В апреле 1949 года у нас родился сын Сережа. У молочницы мы покупали пол-литра молока для сына — больше не могли. Заработки были очень маленькие, а работа очень тяжелая, при десятичасовом рабочем дне и часто без выходных.