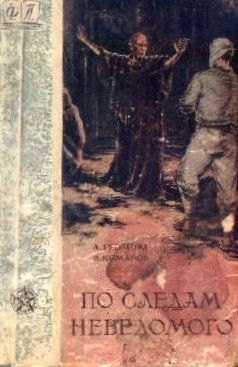— Кто такие? — обратился я к бородатому конвойному.
— Разведчики, — бойко отозвался молодой австрийский солдат. И тут же пояснил: — Мы русины.
— Когда пойманы?
— Вчера, — ответил он улыбаясь.
— Отчего же у них винтовок не отобрали? — спрашиваю я конвойного.
— Они без патронов, — беспечно отзывается конвойный, сидя на бревне.
— А если они тебя прикладом по голове хватят?
— Упаси Бог! Они мирные.
Австрийцы весело рассмеялись.
Едем дальше.
Навстречу печальная процессия. Впереди два стражника. За ними длинная вереница возов, растянувшихся не меньше как на версту. На возах беспорядочной кучей свалены подушки, бочки, самовары, кастрюли, горшки, корзинки, кожухи, полотенца, и вперемежку с узлами и одеялами барахтающиеся детишки с серьёзными личиками. У каждого воза плачущие бабы, угрюмые мужики, старые деды и бабки, с трясущимися руками и сгибающиеся под тяжёлой кладью на плечах. Мычат коровы, визжат поросята, блеют испуганные овцы.
— Откуда? — обращаюсь я к стражникам.
— Из Серикова. В штаб корпуса.
Лохматые, жалкие и растерянные, они идут как на заклание. На их лицах застыла такая страдальческая мольба, что я стараюсь не встречаться с ними глазами.
— Им от всех достаётся, — вздыхает сочувственно Коновалов.
Версты через две навстречу нам другая такая же процессия — из Дериляков. Этой процессии конца нет. Я сворачиваю в Гуту Кжешовскую, где расположился штаб дивизии и головной перевязочный отряд доктора Шебуева. У въезда в деревню, на опушке леса, натыкаюсь на большую толпу евреев, которые раскинулись табором — с детьми, подушками и запряжёнными возами.
— Откуда вас гонят?
— Нас не гонят, — отвечает с улыбкой молодая девушка. — Мы сами идём.
— Куда?
— Из Гуты в Янов.
Шебуев в своём неизменном кожаном костюме, сверкая стёклами и лоснящейся головой, кричит мне с террасы лазарета:
— Здравствуйте, неутомимый искатель впечатлений! Однажды вы попадёте под бомбу. — И с места в карьер разражается обличительной речью: — А ведь про нас ещё раз забыли. Если бы не случайный офицер, который сообщил нам, что десятому корпусу приказано отступать, мы бы так и не дождались распоряжения. В штабе армии растерялись, и распоряжения о вторичном отходе мы добились только по телефону. Австрийцы уже наседали. От нас было послано приказание головному парку. А об остальных мы не подумали. Это дело не наше. Вами распоряжается корпус: инспектор артиллерии.
— Теперь корпусу не до нас: ему надо возиться с поросятами.
— А вы думаете нам не надо? Уже и за нами тянутся подвод двести.
— Кто их кормит?
— А Бог их ведает. Приказывают собраться в полчаса. За два часа до отхода мы получили приказание: уничтожать и портить посевы. Как же это сделать? Скосить? Сжечь? Для всего нужны люди и время. Сегодня проезжали мы мимо такого драматического транспорта. Вышла старая бабка, поклонилась в пояс Белову и только два слова сказала: «Спасители наши!». Знаете, гибельная ведьма в Бирнамском лесу, вероятно, не произвела такого впечатления на Макбета, как эта старуха на Белова.
— Ну, и что ж он?
— Ничего. Пыхтит и Богу молится.
— И, конечно, запрещает говорить о мире?
— Какой там — о мире! О поражениях заикнуться нельзя. И не то что Белов[53] — все до последнего пупсика такие. Не знаю, притворяются ли так искусно они или действительно убеждённые дураки? Победим — да и только.
— Чем?
— Духом. Там, мол, уныние и пессимизм, а на нашей стороне Дух армии и народа... Одним словом, должен вам сказать, что этот так называемый мозг армии — штабные — страдает полным разжижением мозга. Я ведь их наблюдаю все время. Они понятия не имеют о своём деле. Скугаревский[54] ткнул перстом на карте и приказал: построить уступами и баста. А на деле-то вышло так: залез он в долину. Австрийцы его в долину впустили и потом с двух высот взяли его под перекрёстный огонь. Зато храбрости необычайной. И оптимизма — сколько угодно.
— Я знаю эту штуку, — вмешался ординатор Мигулаевский. — Это не идиотизм и не оптимизм, а полное равнодушие. Они не желают видеть правды. А на словах умышленно лгут. Ведь вы им не скажете того, что сейчас говорите нам. И другие не скажут. Все притворяются, как царедворцы. Так и создаётся этот фальшивый оптимизм на словах и абсолютное безразличие на деле. Их просто не трогают наши поражения, и оттого они недооценивают событий.
Выпаленки — красивая деревня в садах. По бокам — леса. Гремят пушки и отчётливо долетает ружейная стрельба. Медленно сгущаются сумерки. Выплыл золотой полумесяц. Загорелись звезды. Заиграли балалайки. Понеслась широкая песня.
— Надо их унять. Уж очень они разошлись, — раздражается Старосельский.
— Чего ради? Что у нас, панихида? — спрашивает Болконский.
— Лучше б они дышла не ломали, — огрызается Старосельский. — А то они, сукины дети, посреди дороги дышло сломали. Тут, можно сказать, австрийцы наседают, а они дорогу застопорили...
Спим под открытым небом.
Просыпаюсь чуть свет. Прямо над головой, звонко гудя мотором, низко плывёт огромный аэроплан. Я смотрю вверх на чёрные кресты на крыльях, и почему-то мысль об опасности не пугает. Наскоро одеваюсь и приступаю к телесному осмотру.
— Что я мальчишка, что ли, чтобы меня насильно доктору показывать? — сердито ворчит Жигалов.
— Обида и мне, и всему воинству православному, — посмеивается Никитин. — Перед всем народом штаны спускать.
— Что ты доктору докучаешь? Ты ему скажи. Тут ты смелой, а перед ним немой.
— Погоди, ещё не так услышит...
И вдруг несколько голосов жадно набрасываются на меня:
— Не слыхать, ваше благородие, скоро по домам ехать будем?
— Что-то начальство не собирается. Говорит: надо немцев прогнать.
— Так точно: надо бы, да не поддаётся. Больно хитёр.
— Дальше воевать — зря людей тратить.
А за чаем прапорщик Растаковский с большой авторитетностью говорил:
— Отдадим ещё втрое больше нашей территории, до Москвы отойдём, если понадобится, но победа останется за нами. Главное — против нашего фронта большинство теперь словаки, поляки и венгры. Им неохота с нами драться. А наш солдат зубами в немца вгрызается...
В десять часов получено приказание отойти головному парку на одиннадцать вёрст.
...Возвращаюсь в Янов более короткой дорогой — по линии отходящей пехоты. Кучками плетутся раненые с помертвевшими лицами и сверкающими глазами.
Со всех сторон тянутся жители окрестных деревень. Они плетутся медленно, усталые и понурые, с узлами и котомками за плечами.
Две всхлипывающие бабы несут на одеяле исхудалого больного ребёнка.
Каждую минуту лица меняются, но картины все те же: картины жестокой, нелепой, чудовищной войны. Люди, одним взмахом штыка превращённые из мирных, трудолюбивых поселян в бесприютных бродяг, скулящих и воющих, как бездомные собаки...
В Янов добрался ночью. Офицеры все в сборе. Костров, начинённый бочками оптимизма, рассказывает о победах союзников, о купленных нами японских пушках, о приближающихся сибирских войсках...
А через час шла оживлённая игра в девятку, пересыпаемая обычными прибаутками:
— Бей её по зубам!
— В кусты!
— Люби ближнего своего, когда он проигрывает.
— Гуртом и батьку бьют.
— Зри в карты ближнего своего, а в свои всегда заглянуть успеешь...
В домах наскоро заколачивают ящики, забивают чердаки и каморы. Этот стук печально разносится по опустевшему городу.
У ворот толпятся кучки евреек. Они нервно жестикулируют и, скорбно покачивая головой, что-то горячо обсуждают.
По штабам бродит грозный призрак «шпионствующего еврея». Новый секретный приказ, разосланный по всем корпусам, так и составлен «с ручательством и гарантией» на любой рост и на любую еврейскую фигуру: «В районе расположения наших войск бродит еврей, торгующий якобы мелочью в разнос и вступающий в разговоры с солдатами... Приметы еврея: лет 35, рыжеватая борода, одет в долгополое платье, на голове чёрная польская шапочка, на ногах старые и дырявые сапоги».
Секретный приказ предписывает изловить зловредного еврея в дырявых сапогах и представить в штаб армии. Начальник дивизии, тот самый генерал Белов, который, по словам доктора Шебуева, «только пыхтит да Богу молится», в припадке христианнейшего милосердия наложил ещё резолюцию от себя: «Представлять и задерживать не только этого, но и всякого любопытствующего еврея».
Появление таинственного еврея в долгополом кафтане «в районе расположения наших войск», по обыкновению, сказывается на армии: вслед за приказом о евреях следует приказ об отступлении.
Мы отступаем.
В последний раз огибаем Янов.
В розовых сумерках плавает ласковая свежесть. Сквозь купы гигантских тополей и лип выглядывают сияющие кресты церквей и костёла. От молчаливых сосен, от высокой кладбищенской ограды и белых яновских стен струится тихий покой. Неугомонные жаворонки нежно допевают свои вечерние песни. Кругом на десятки вёрст свирепо перекликаются пушки.
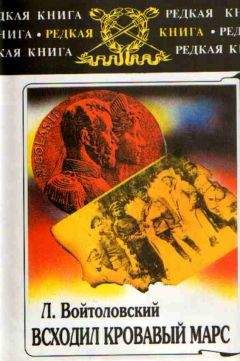

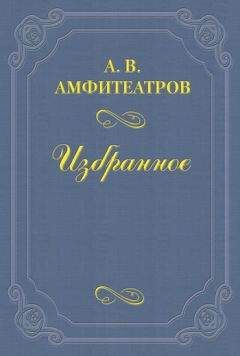
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)