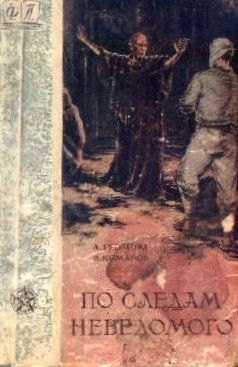Второй день стоим у самых позиций. Сюда являются люди непосредственно из огня. Больше всего — солдаты Терско-кубанской дивизии, которую бросили в прорыв. Они чувствуют себя крайне обиженными.
— Это ничего, что нашей дивизией прорыв заткнули, — заявляют они. — Только зачем нас спешили и послали в бой без штыков?
Поминутно являются за снарядами из разных частей. Но снарядов нет. В головном эшелоне собрался весь резерв 70-й бригады. На позициях одни передки остались. Приходится каждому объяснять, что снарядов нет ни в среднем, ни в тыловом парке и рассчитывать на скорое пополнение никак невозможно.
Примчались и терцы, разгорячённые, с блуждающими глазами, и кричат диким голосом:
— Га!.. Давай патроны!
— Нету.
— Что такое? — вращают они свирепо белками. — Мы прорыв затыкали, а вы не даёте?! Вы будете письменные сношения делать?! Давай патроны!..
Приходится открывать двуколки. И только убедившись собственными глазами, что в ящиках пусто, терцы со свистом и гиканьем несутся дальше и орут на скаку страшным голосом:
— Где патроны? Давай патроны!.. Мы прорыв затыкали...
* * *
В воздухе жарко, парно. Похожие на гром орудийные раскаты сливаются в сплошной гул, от которого тяжело колышется воздух. Высоко в небе упруго звенят аэропланы, приближение которых встречается трескучими залпами дежурных пушек.
В полдень небо покрылось густыми синими тучами. Сделалось ещё более душно. Заблестели молнии, загрохотал гром. Две стихии — небесная и земная — ожесточённо стремились перегреметь одна другую. Хотелось лечь, притаиться, уйти от этого жуткого грохота. Укрывшись буркой, я зарылся глубоко в сено, чтобы дать отдых ушам. Необычайно сильный треск, раздавшийся у самой стодолы, заставил меня вскочить. В то же мгновение вся стодола наполнилась ярким пламенем. Красный огненный шар с рваными краями пронёсся скачущим зигзагом по воздуху и, как ласточка, вылетел из стодолы.
— Что это? — вскрикнул я и услыхал раздирающие вопли:
— Ратуйте! Ратуйте!
Одну минуту мне казалось, что это бомба. Но на дворе лил дождь: аэропланов быть не могло.
Кого-то из солдат волокли по земле. Я понял, что это молния оглушила солдата, и издали закричал:
— В землю! Заройте его в землю!
Пока я подбежал к оглушённому, его успели засыпать землёй и он стал приходить в себя.
Из-под кучи мокрой земли и навоза на меня смотрели испуганные глаза Коновалова.
Трясущимися губами он еле слышно обратился ко мне:
— Ваше благородие! Пропал я?.. Кинець?
Тщетно я успокаивал его. Вид солдат, засыпавших его землёй, внушил ему твёрдую увереность, что его хоронят, и он продолжал твердить:
— Це вже кинець мени. Я ж бачу...
У Коновалова оказалось обожжённым плечо, а стоявшего рядом с ним Звегинцева ударом молнии опрокинуло наземь. Груша, под которой лежал Коновалов, была, как когтями, ободрана в нескольких местах. Почему-то на солдат этот случай произвёл очень сильное впечатление, и они многозначительно говорили:
— В бою не помрёшь, так смерть своё возьмёт!..
С пяти часов вечера безостановочно грохочут орудия. В девять короткий перерыв, и потом опять до двух часов ночи. Нервы не выдерживают этого безумного рёва. Снаряды все израсходованы. Остался неприкосновенный запас. Послан ординарец в штаб корпуса за указанием, что делать. Получен уклончивый ответ: «Телеграмма заведующего артиллерийским снабжением армии полковника Тарочкова сбивчива. Держите ящики в угрузке и при первой возможности переправьте снаряды в головной парк. То же передайте 18-й парковой бригаде».
Между тем неприятельская артиллерия гремит с неслыханной силой. Одновременно стреляет бессчётное количество орудий. Создаётся такое впечатление, будто трещит исполинский пулемёт и выбрасывает не пули, а тысячи разрывных снарядов.
В три часа ночи грохот все продолжается. Слышится то протяжное, долгое рычание, то частыми толчками сыплется: б-бах! бах! б-бах!.. Гудит земля, и верхушки деревьев вздрагивают от ударов. Лошади совершенно ошалели, испуганно прядают ушами и становятся на дыбы. Люди растерялись до слез. Четыре роты юхновцев не выдержали этой пальбы, выскочили из окопов и бросились в стороны, как безумные. Десятки раненых толкутся в нашей палатке. Они с трудом отдают себе отчёт в происходящих событиях.
— Отступаем? — спрашиваю я их.
— Не, потеснили два австрийских полка.
— Значит, вперёд идём?
— Не могу знать. Чи вперёд, чи назад...
— Трудно его выбивать из окопов?
— Его совсем мало. Одни старики. Все из Ржешова, Горлицы, Шинвальда — из тех мест, где мы в Галиции стояли. Он, как нас вышиб, всех на войну погнал. Сами пленные говорили. Пехота у него австрийская, а орудиями немец командует. Взяли мы пленных душ триста, а он их половину, пока довели, из своих пушек перебил.
— А то ещё так бывает: немец австрийцу скажет: «Сдавайся!» Тот руки подымет. Мы к ему. А немец с боков давай бить...
— У нас которые рассудку лишились, — вставляет другой. — Против Сурского полка тяжёлые орудия поставил. Бил, бил — до поздней ночи. Кругом все попалил. От бою земля стонала. Тут которые сурцы есть — совсем как ума решились.
— А кто тут из Сурского полка?
— Вон тот, что коло батюшки стоит.
Я подошёл к солдату невысокого роста с рыжеватой окладистой бородой. Весь вид его, расслабленный и прибитый, говорил о перенесённом потрясении.
— Ты какой губернии?
— Воронежской, — ответил он безразличным тоном.
— Какого полка?
— Сурского.
— Когда ранен?
— Сегодня.
— Как дела наши?
— Дела ни-ча-го. Только... только..
И он вдруг зарыдал горькими слезами. Он плакал, закрыв лицо корявой мужицкой рукой, и вся борода его в одну минуту намокла от слез.
— Чего ты, как дитя малое? Тебе сколько лет?
— С-со-рок четыре, — с трудом выговорил он сквозь горькие всхлипывания.
— Стыдно ему, — вмешался старенький лазаретный священник, — что Россию бьют. От стыда в нем душа плачет. Ты не плачь, — обратился он утешительно к солдату. — Ты возблагодари Господа за то, что он жизнь твою сохранил.
— Страшно, батюшка! Страшно, ваше благородие! — протянул он тихим запуганным голосом и весь жалко затрясся.
— Ты в первый раз в бою? — спросил я.
— Никак нет. Был я... на энтом... на Козювце, на Карпатах. Так не было страшно...
— А ты привыкай, — дружески сказал священник. — Десять держав воюют. Все друг друга уничтожить хотят. И нам надо! Ничего не поделаешь. Мне вот шестьдесят три года, — улыбнулся он, — а я вот учусь через канавы прыгать... Война!.. Привыкать надо.
— Не могу, батюшка!.. Страшно...
И, низко наклонив голову, солдат опять залился слезами. Я смотрел на его опущенные плечи, на грязный подол его шинели, измазанный кровью, на его плачущее лицо, по которому вместе со слезами текла сопливая жижа, и мне вспомнились презрительные слова Гинденбурга:
— Война с Россией — это вопрос нервов.
Подошёл полковой врач, посмотрел на плачущего солдата и бросил на ходу:
— Реакция... После артиллерийского огня... Фельдшер! Дай ему валериановых капель.
Семидесятая артиллерийская бригада третьи сутки в непрерывном бою. Исчерпаны все резервы. Не только бригада не в состоянии поддерживать пехоту, но и пехота не открывает ружейного огня за отсутствием патронов. Вчера из Сурского и Кромского полков приехали двуколки, и солдаты со слезами умоляли спасти сидящих в окопах. Без ведома командира бригады прапорщик Кириченко выдал юо тысяч патронов из неприкосновенного запаса, состоящего на учёте командующего армией. Базунов разнёс Кириченко, и сам, в свою очередь, получил жестокий нагоняй от инспектора артиллерии. Вечером Кириченко отобрал сто человек из своего взвода и с пятью двуколками отправился неизвестно куда. Вернулся он поздней ночью и немедленно отправил краткое донесение командиру бригады: «Растрата пополнена».
Ни Старосельский, ни Базунов не пожелали узнать, где и как удалось Кириченко раздобыть юо тысяч ружейных патронов. Не спрашивали об этом и офицеры. Только прапорщик Болконский раза два за обедом, обращаясь к Кириченко, называл его «по ошибке»: прапорщик Дубровский. А из штаба корпуса после донесения Базунова, что растрата пополнена, получилась строжайшая бумажка: «Не сметь расходовать этих патронов без распоряжения инспектора артиллерии и возить их при среднем парке».
* * *
Тихо, ни единого выстрела. Даже аэропланы не летают. После вчерашнего боя это молчание кажется зловещим. У боя есть свои захватывающие моменты, свои пропитанные солью и сладостью тревоги. Грохот пушек и оглушает и по-своему взбадривает. Орудийные звуки можно истолковать и так и этак. Железное молчание окопов хуже смерти. В тишине, в полной, абсолютной тишине, в дремоте, без грохота — уныние могилы.
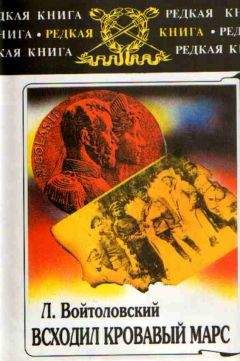

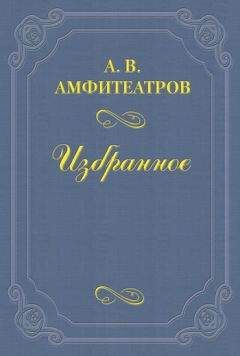
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)