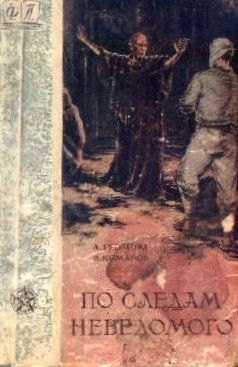А густые колонны «погоньцев» все растут и растут. Со всех, просёлочных дорог приливают все новые фургоны. Литое Влодавское шоссе гудит стоголосым гулом, за которым не слышно ни жужжания аэропланов, ни грохота пушек.
Отойдя от дороги и сидя верхом на лошади, я наблюдаю этот клокочущий поток. На десятки вёрст в длину, в ширину, назад и вперёд колышутся и переливаются цветные пятна бабьих платков и сарафанов, мужичьих свиток, солдатских шинелей, пёстрых коров и лошадей. От этих переливающихся пятен несётся ровный, скрипучий, неумолкающий каменный скрежет, раздираемый резкими выкриками автомобилей и грозными окриками солдат:
— В сторону! Вправо! Сворачивай!..
Беженцам нельзя останавливаться ни на минуту: сегодня же к вечеру они должны быть все за Влодавой. Казаки подгоняют их плетью. Мужики, не имеющие возов, погрузили на самодельные тачки свой тощий скарб, впряглись в них вместе с детьми и мучительно надрываются под тяжестью непосильного груза, под июльским солнцем и под страхом казацкой плётки. Вот старик — дряхлый, трясущийся, развинченный. Он без шапки. Изжелта-белые, истлевшие волосы разметались липкими прядями. Глаза безумно-испуганные, бессмысленные. Он ухватился обеими руками за верёвку, привязанную к коровьей ноге, и, согнувшись, ковыляет за толпой. Ему девяносто лет — николаевский солдат, — он третий месяц в дороге. Вот другой старик, улучивший минуту для передышки: он упал на колени и, сложив молитвенно руки, шевелит помертвевшими губами.
— Чего ты просишь у неба? — спрашивает его адъютант.
— Смерти, — отвечает старик.
Вот на возу мёртвая баба. С ней рядом корчится в холерине другая, тоже умирающая. По лицу мужика, погоняющего костлявую лошадь, бегут слезы. Двое детишек смотрят обезумевшими глазами на окостеневшую мать, безжизненно вытянутая рука которой бьётся о край повозки.
— Ты бы похоронил покойницу, — советует адъютант. — Детей жалко.
Мужик безнадёжно махнул рукой: останавливаться не позволяют.
Иногда, рассекая толпу, проносятся парные экипажи с солдатом на козлах. В экипажах сидят молодые девушки, весёлые, наглые и задорные.
— Эти войны не боятся, — говорят кругом и солдаты и беженцы. — Этих война кормит и обувает. И ещё после войны останется.
Их профессию отгадать нетрудно. Но как они попали в этот страшный водоворот? Отчего мчатся в военном экипаже с солдатом на козлах?.. Об этом, впрочем, тоже нетрудно догадаться. Люди осведомлённые передают, что при одном из привилегированных кавалерийских полков (не помню — драгунском или гусарском) имеется свой постоянный походный притончик, состоящий из матери (бывшей польской помещицы), двух дочерей и француженки-гувернантки. Его услугами пользуются только штаб-офицеры, а удостоенные этой чести избранницы находятся под неусыпным наблюдением врача-специалиста.
Из рядов «погоньцев» все чаще вылетают злобные крики и проклятия. Близится вечер.
Вечером все они, как саранча, осядут на чужих полях и, как саранча, сожрут и истребят все, что встретится на пути.
* * *
Головному парку приказано расположиться в Парипсе. Однако через три часа после прибытия парка в Парипсу там уже рыли окопы, и парк передвинулся в Кробашово. Средний и тыловой парки остановились в Потоках, близ Угрузка.
С раннего утра везут раненых под Холмом. Большинство гвардейцы.
...Рано утром явился ординарец из штаба корпуса с экстренным предписанием: «Для надзора за скорейшим питанием корпуса снарядами немедленно перейти тыловому парку с управлением 70й парковой бригады на станцию Влодава, где находится местный парк. Снаряды немедленно по получении передавать в тыловой парк 18-й бригады — в Оконинке. Промежуточному парку 70-й парковой бригады стать на северной окраине Оссова. Промежуточному парку 18-й парковой бригады расположиться южнее, в Ловче, откуда снаряды будут перевозиться в головные парки 14го корпуса. Тыловым паркам стать головными».
— Теперь ясно! — воскликнул обрадованно Костров. — Мы теперь отступили, заманили их, а там ударим целой армией! Ох, запляшут же немчики, запищат! Уконтропошим! Разобьём Вильгешку вдребезги!..
— Правильно! — в тон ему отзывается Базунов. — Вот только ещё не решено, где это «там». Отступать ли нам до Москвы или до Иркутска?
До Влодавы двадцать пять вёрст. Но лошади кормлены, люди сыты, погода хорошая. Что ещё требуется для хорошего настроения? Не вечно же думать о беженцах, аэропланах и пушках! У адъютанта нарыв на ноге, и он едет в бричке, куда насажал к себе детишек.
— Ещё прибросят, — пугают его солдаты.
— И отлично. Веселей будет воевать.
— Ви би, ваше благородие, — советует Шкира, — вон цю, баришню до себе посадили. Дуже гарна паненка.
Денщики смеются:
— Шкира вже влюбився.
— Он и в Савине, — говорит Юрецкий, — успел. Какая-то девка даже, провожать его вышла.
— Правда это, Шкира? — любопытствует адъютант. Шкира свободно объясняется и по-украински и по-русски. Но почему-то шутит он и «жартует» по-украински, а петь и философствовать предпочитает по-русски.
— Так точно, — улыбается Шкира. — Пытаэ: «На що ви так скоро уходите? Тильки пришли тай вже на коней сидаэте». А я ий кажу: «Одному охвицеру не понравилось, як ви соби чуби стрижёте». Так вона смиэться: «Из-за одного офицера стильки дивчат губить — хиба ж це можно?» «Можно, — кажу я. — Из-за одного Вильгельма хлопцив ще билыпе загубили...»
Разговор неожиданно обрывается. Лица напряжённо вытягиваются, подымаются кверху, где плавно парит над головами огромный аэроплан.
— Аэроплан, аэроплан! — несётся тревожным криком от воза к возу.
И беженцы начинают испуганно метаться. Матери скликают детей. Старики крестятся. Бабы и девки отбегают от большой дороги в сторону. Мужики усердно работают кнутами, безжалостно полосуя лошадей. Аэроплан быстро направляется к нам, потом вдруг затихает на месте и медленно поворачивает вдоль леса.
— Позиции изучает, — решают солдаты, и все мигом успокаиваются.
Движемся медленно: по три версты в час. Обывательские лошади еле плетутся. Бабы плачут:
— Лучше бы нас прямо под позиции погнали и сразу убили. Слезаю с лошади и, наметив крошечного добровольца, вступаю с ним в беседу.
— Ты какой части?
Мальчик подозрительно косится на меня и неохотно отвечает:
— Ещё никакой. Иду со слабосильной командой к коменданту.
— Откуда?
— Из Москвы.
— А родители твои где?
— У меня родителей нет. Кабы родители были — не пошёл бы. Я сирота.
— Знаю. Все вы так говорите, чтобы скорее приняли в полк.
— Я правду говорю.
— Тебе сколько лет?
— Четырнадцать... будет.
— Через сколько лет?
— Не лет. Через... четыре месяца.
— Что же тебе хочется ко дню рождения Георгия заслужить?
— Я ещё зимой во Львове был.
— Ну и что же?
— Назад отослали в Москву.
— И отсюда отошлют.
— Все равно, я до позиции доберусь!
— Что ж ты там делать будешь, на позиции?
— Патроны подавать. В команду разведчиков попрошусь.
— А в разведчиках что делать будешь?
— Что прикажут, то сделаю.
— И немцев колоть будешь?
— Конечно. Ещё как!
— Да ведь у тебя силы не хватит.
— В винтовке десять фунтов. Десять фунтов не подыму?
— В винтовке — десять, да в солдате немецком пять пудов.
— Что ж такое! Мне только кольнуть и вынуть. А он уж сам упадёт. Мне его толкать не надо.
— Ты, значит, все уже обдумал — и куда колоть, и как убить. А о том, что жалко людей убивать, ты не думал?
— Нет, мне не жалко.
— Ты такой кровожадный?
— Когда к вам в дом грабители придут, станете вы о жалости думать? Родину защищать надо! — отчеканил он сурово и строго.
— Разве без тебя защитников мало? Видишь, сколько солдат кругом.
— А новый набор зачем делают? Значит, мало!
— Так ты погоди: когда позовут тебя — пойдёшь. А теперь от тебя на позиции одна помеха. Тебя и в дороге раздавить могут. И устанешь ты и вшами покроешься. Заболеешь.
— Не заболею.
— Ноги не болят?
— Третьи сутки не отдыхал — не болят, — с гордостью заявил он и по-солдатски одёрнул книзу скатанную шинель.
— А может, все-таки посидишь на возу?
— Кабы другие солдаты на возах были... А раз они пешком — и я с ними.
И пошёл скорым шагом вперёд.
— Шустрый мальчонка, — заметил бородатый солдат, прислушавшийся к нашему разговору.
— Кабы глупый, небось сюда б не добрался, — сказал другой. И прибавил задумчиво: — От самой Москвы... Значит, большая охота в ем... А может, как пули услышит, и пропадёт охота...
— Не пропадёт, — отозвался новый солдат. — У нас в полку пятеро таких: патроны носят. Как бой, самый что ни на есть огонь своей охотой идут. Уж если захотелось ему — не удержишь...
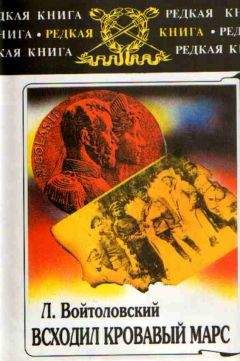

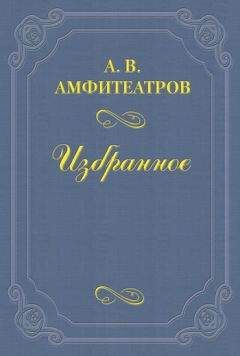
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)