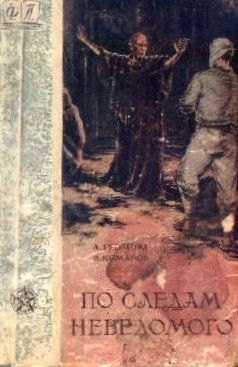— Что значат пушки? — угрюмо говорит Старосельский. — Какая здесь уйма нашего войска, а немцы как сквозь решето идут. — И вдруг загорается свирепой злобой: — Это все сволочи, солдаты. Сукины сыны! Им только морды бить, кишки выпускать. Пока не сдавишь за горло — вот так! — ничего не сделаешь с ними...
* * *
Идёт непрерывное движение. Гулко грохочут пушки. Небо в огромных огненных пятнах. Изо всех придорожных деревушек вливаются новые потоки «погоньцев», сотни новых возов, которые пищат, скрипят, визжат и наполняют воздух надрывающим криком грудных младенцев. Покрывая все эти звуки, гремят повелительные голоса:
— Выкуривай! Выкуривай изо всех щелей!..
Вдруг пошли слухи, что прорыв удалось заткнуть. Клубы чёрного дыма по-прежнему колышатся в воздухе, но оптимистические птицы распевают пронзительным хором.
— Не будем доискиваться правды, — предлагает прапорщик Кузнецов, — а устроим небольшой отдых.
— Предложение принято, — кричит Болконский.
И через минуту мы в большом тенистом саду, под пахучими яблонями. Откуда-то доносятся звуки военного оркестра. Здесь невдалеке расположился штаб и какие-то части д-й Сибирской стрелковой дивизии, которые... справляют свадьбу: молодой сибирский стрелок женится на беженке. Венчает лазаретный священник. Шум, веселье и хохот. Солдаты ходят в обнимку с разодетыми и разукрашенными цветами беженками. Среди танцующих пар выделяется статная фигура Шкиры. Тут же юлой вертится Блинов, который, проходя мимо нас, умышленно громко говорит своей даме:
— Видишь, мы тоже обижать понапрасну не хотим. Растянувшись на травке, Костров блаженно мечтает вслух:
— Сколько хороших вещей на белом свете. Э-эх! Супец с корешочками! Говядинка с бурачками! Вот бы ещё баранчика. А-ах, х-хар-рро-шая штука!.. А на третье вафли с молоком, со сливочками. У-ух!..
Кузнецов лениво пощипывает балалайку и мурлычет себе под нос:
Ай-да тройка!
Только тронь-ка —
Я все маме расскажу.
Ну, довольно,
Мне ведь больно...
* * *
В Домачове настроение резко изменилось. Шли остатки разбитых частей и рассказывали о полках и дивизиях, превращённых в груды окровавленного мяса.
...Воздух наполнен гарью, жужжанием аэропланов, причитаниями беженцев и паническими слухами. Выяснилось, что нас собираются запереть в Бресте.
Август
Ночуем в Пищаце. Поздно ночью услыхал я нервный и торопливый говор. Слышались женские крики и голоса, звучавшие томительным страхом. Я вышел за околицу. Было темно. Скрипели подводы, за которыми поспешно шли какие-то странные фигуры.
— Кто такие?
— Евреи.
— Откуда вы?
— Выселяют из Пищаца.
Они шли почти бегом, поминутно окликая друг друга. Их тревожные окрики и суетливые движения полны были смертельной боязни.
— Почему вас выселяют ночью?
— А мы знаем? — с глубокой горечью отвечали из темноты голоса. — Кому-то надо ускорить нашу погибель...
Я стоял потрясённый и невольно втянутый в чужую судьбу. В стороне от дороги пылал огромный костёр. Оттуда, как из бледного призрачного царства, неслась унылая тягучая песня:
Вы сог-ре-е-ей-тесь леса-а-а-ми дремучими, и
Вы омо-ой-те-есьслеза-а-а-ми горючими,
Вы испейте кро-о-вь, кровь солдатскую,
Схорони-и-и-те в яму бра-а-а-текую...
Я подошёл к костру. В живописных позах лежали пленные австрийцы, охраняемые кучкой конвойных.
Что это за обоз прошёл? — обратился я к солдату.
— Хаимов погнали.
— Почему же ночью?
Солдат лениво цыркнул в костёр и равнодушно ответил:
— Чтобы скорее память потеряли и немцу пересказывать не могли.
...Девять часов. Прошли головные парки 49-й бригады. Потянулись последние дорожные роты. Совсем низко летают неприятельские аэропланы.
— Черт их знает, — с тоскливым раздражением повторяет доктор Колядкин, — забыли! Примчались взволнованные ординарцы из нашего головного и из головного парка 18-й бригады:
— Ваше высокородие! Отчего нет приказания? Беспокоятся парковые командиры.
Базунов сердито пожал плечами:
— Я знаю столько же, сколько ты.
— Ваше высокородие! Уже кавалерия движется.
— Ну, что ж? Останемся в арьергарде.
Одиннадцать часов. Ушли последние жители. Все кругом опустело. Посреди улицы валяются брошенные бочки, обломки мебели, тряпки. Улеглась пыль на дороге. Где-то совсем близко слышна пулемётная стрельба. Офицеры обмениваются отрывистыми фразами:
— Однако что ж это будет? — ворчит Базунов. — Тут нужно что-то предпринять.
— Идут на рысях, — нервно замечает Костров, прислушиваясь к топоту кавалерии.
— На рысях или галопом — оптимистов это не касается, — угрюмо иронизирует Базунов.
* * *
Два часа. Идёт сторожевая команда Сельского полка. Офицер бросает на ходу:
— Вы чего тут торчите? С Бялой уже нет телефонного сообщения. Ушли последние поезда.
— Так и есть, — горячится Базунов. — Послали какого-то казака. Тот, подлец, не доехал. А мы сидим. Недаром я прошу, пусть наши ординарцы в штабе сидят. Нет, не желают, черт их дери!
Он нервно шагает по стодоле и выкрикивает взволнованным голосом:
— Как чешут, подлецы! Уже за Бялой!.. Надо писать домой: пускай уезжают. Меня убьют, не убьют — ничего не поделаешь, мы на войне! А они пускай уезжают из Киева... У нас ещё только в конце августа снарядов чуть больше будет. А немцы вон какой бешеный аллюр развивают. Им наплевать. Они все это знают — и прут. А у нас глаза закрывают. Не хотят видеть, что до сих пор только австрийцы были, а теперь германцы лезут. Прут как черти! Будут через неделю в Киеве.
Три часа. Казаки обшаривают дома и с изумлением косятся на нас. Они гонят гурты скота. Тучи дыма и пыли смешались с воздухом и образовали густую пелену, сквозь которую совсем не пробивается солнце. Люди, как тени, движутся в этой зловещей полутьме.
Идут последние отряды подрывников.
— Надо и нам двигаться, — нерешительно заявляет Костров.
— Не имею права! — говорит Базунов.
— Тогда пошлём ординарца в штаб корпуса, — предлагает адъютант.
— Штаб корпуса теперь в двадцати верстах от нас, — угрюмо протестует Базунов. — Двадцать да двадцать — сорок. Это добрых четыре часа ждать. А через полтора часа здесь будут немецкие уланы.
Три часа двадцать пять минут. На лице Базунова появляется игривая улыбка.
— Не теряйте времени даром, господин оптимист, — обращается он к Кострову. — Надо бы письма написать, последние письма...
И, широко выпятив грудь, он отдаёт звучным голосом команду:
— На коней!
— А головные парки? — встревоженно спрашивает адъютант.
— Вы думаете, они такие же дураки, как мы? — смеётся Базунов. И весело добавляет: — Я уже два часа назад послал им приказание уходить.
Парк, как птица, летит по пыльной дороге. Издали чётко доносятся ружейные залпы.
— Скоро кончится эта канитель? — спрашивает, потягиваясь в постели, адъютант. — Хоть бы скорей до Бреста добраться.
— Какая канитель?
— Да это бесцельное мотание по дорогам.
— Судя по газетным отчётам вашей Думы, — насмешливо ворчит Базунов, — лет пять ещё будем странствовать.
— На словах. Но ведь дольше это тянуться не может. Вы посмотрите, какой кабак. Только что здесь стояли холерные бараки. А теперь на их месте отдыхает какой-то госпиталь. Ушли и даже не позаботились оставить надпись, что место загажено. Ведь это прямой рассадник холеры.
— Пускай немцы заболевают, черт с ними! — говорит Старосельский.
— Пока немцы заболеют, беженцы по всей России холеру разнесут, мрачно пророчествует Базунов. — Погодите: будет у нас и Брест, и холера, и тиф, и конину жрать будем.
— А из Бреста отпуска давать будут? — спрашивает Костров.
— Когда Брест обложат, всем дадут бессрочные отпуска. Скажут: поезжайте, кто хочет и куда хочет. Хоть в царство небесное. А теперь говорят: по одному офицеру раз в две недели на полк. Сколько же они собираются воевать? В полку восемьдесят шесть человек. Значит, сорок три месяца — пока один раз все побывают в отпуску?
— Зато, по крайней мере, в крепости делать ничего не надо будет. Ни отчётов, ни казначейства, ни передвижений. Сиди и в окошечко поглядывай, — мечтает вслух адъютант.
— От этого удовольствия вас скоро стошнит. Как запрут нас в крепостной бастион, через месяц, как монах о скоромном, начнёте о работе мечтать.
...Гляжу на проходящую пехоту, и мне вспоминается Гаршин с его младенческим лепетом:
«Четыре дня на поле сражениям. Лёгкий идиллический ветерок, нежно обдувающий щетину солдатских подбородков. Всматриваюсь в эти стиснутые челюсти, обтянутые щеки и угрюмо горящие глаза. У всех одно выражение: глубокое презрение ко всему на свете и равнодушноразбойная покорность:
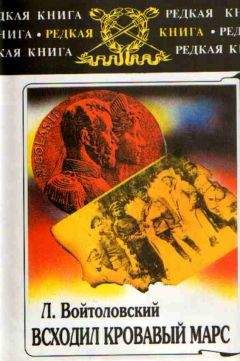

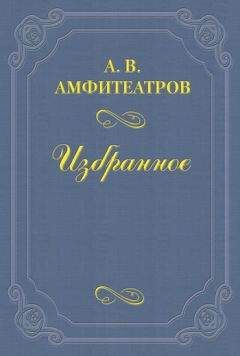
![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](https://cdn.my-library.info/books/143260/143260.jpg)