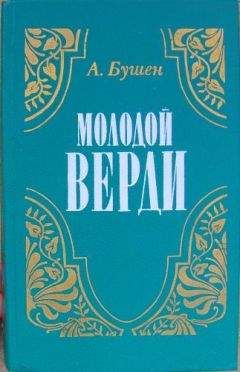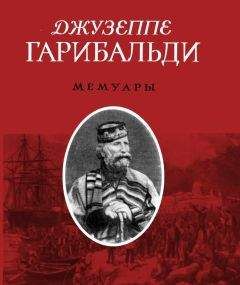Лауро Контарди сжал кулаки и застонал от бессильной ярости. Кровь бросилась ему в голову. Лицо его побагровело. Он пришел домой в состоянии крайнего возбуждения, задыхающийся, с трясущимися руками. Он сел ужинать, но есть почти не мог.
Старая Перпетуя сгорала от любопытства: «С чего бы это так расстроился синьор?» У нее чесался язык, так хотелось спросить, что с ним. Но она знала, что он не скажет и все придумывала, как бы все-таки узнать, отчего он так расстроился. Подавая ужин, она преувеличенно хлопотала, суетилась и вертелась вокруг стола. И даже один раз сделала вид, как будто ей послышалось, что он обратился к ней: «Что вы сказали, синьор? Простите, я не расслышала», — хотя отлично знала, что он ничего не говорил.
Свеча догорела. В комнате стало темно. Перпетуя подала хозяину кофе и принесла новую свечу. Но он сказал: «Не надо», — и ей пришлось уйти. Он продолжал сидеть за столом, пил кофе и курил, курил, не переставая, одну папиросу за другой.
Перпетуя мыла посуду и прислушивалась, но ее не звали. Она не могла дольше пребывать в неведении, оставила тарелки в воде, вытерла руки и решительно вошла в столовую. Было совсем темно, и она видела только красный огонек папиросы. Он то вспыхивал, то потухал, как догорающий уголек в камине.
— Синьор напрасно сидит в темноте, — сказала Перпетуя, — темнота — дурная советчица, говорят старые люди. Она нагоняет на душу печаль. А синьор и так печален и огорчен, я уж вижу. Не заварить ли синьору липового цвета? Дон Винченцо, мой прежний хозяин, господь да упокоит его душу, — Перпетуя перекрестилась, — очень любил липовый цвет. Я, бывало, частенько заваривала ему. Он прибавлял туда несколько капель снадобья из такой пузатенькой бутылочки, она стояла у него под ключом, в шкапчике возле кровати, и ключ он всегда держал при себе, он не расставался с этим ключом, он носил его на цепочке на руке, вместе с четками. Аромат от этого снадобья распространялся на всю комнату, что-то необыкновенное, какое-то райское благовоние. Я думаю, это были чудотворные капли. Дон Винченцо, царство ему небесное, очень любил липовый цвет с этими каплями. Жаль, я не знаю, что это было, я бы посоветовала синьору. Дон Винченцо выпьет, бывало, и скажет: «Перпетуя, налей мне еще. Это разгоняет тоску, это веселит сердце, это согревает душу, это божий дар, Перпетуя». И я отвечала ему: «Да, падре». Он не гнушался беседовать со мной, святой был человек.
Лауро Контарди молчал и курил. Перпетуя не унималась:
— Или, может быть, позвать цирюльника? Он поставит синьору пиявки, это очень хорошо помогает. Пиявки облегчают сердце, отсасывают от него кровь. А что нужно огорченному сердцу? Облегчить его, оттянуть от него кровь.
Огонек папиросы прочертил в воздухе светящуюся параболу и погас.
— Замолчи, старая перечница!
Перпетуя обиженно фыркнула и шмыгнула за дверь. Старая перечница! Никогда дон Винченцо не называл ее перечницей. Да еще старой перечницей! Вот еще!
Лауро Контарди пошел в комнату, служившей ему одновременно и спальней и рабочим кабинетом. Тщательно запер дверь, вынул из замка ключ и аккуратно заткнул бумагой замочную скважину. Потом засветил высокую желтоватую свечу и сел в кресло к столу.
На кухне Перпетуя гремела посудой. Можно было подумать, что она с ней воюет. Право, это была настоящая война. Можно было удивляться, как это она еще ничего не расколотила. Она швыряла чашки и тарелки в стенной шкаф безо всякой осторожности. Подумаешь тоже, посуда! Бог с ней совсем, с посудой! Что такое сказал хозяин? Старая перечница! Почему это вдруг старая перечница? Во-первых, она еще совсем не старая, а средних лет. В самом расцвете лет, можно сказать. И почему это девушка в ее возрасте считается пожилой, а про вдову, например, в этих же годах говорят — она еще молода? Это очень обидно для девушки! Ведь и она, Перпетуя, могла бы быть вдовой, и тогда про нее говорили бы — она еще молода. Но она девушка. И гордится этим. Не далее, как в прошлую пятницу отец Джачинто, ее духовник, сказал ей: «Вы, Перпетуя, примерная девушка, вы всегда можете получить от нас самые лучшие рекомендации». Это что-нибудь да значит! Отец Джачинто не станет говорить зря, и уж, конечно, он никогда не назвал бы ее старой перечницей. Правда, в этот раз он задал ей вопрос, который ее очень озадачил. Он спросил: «Скажите, дочь моя, много ли пишет ваш хозяин?» И она ответила: «Да, падре. Когда он дома, то он или играет на своей новомодной трубе, или пишет». Тогда отец Джачинто спросил, много ли писем пишет синьор Лауро. А она ответила, что ему писать некому, потому что он совершенно одинок. И вздохнула сочувственно. Но отец Джачинто не обратил внимания на то, какая она заботливая и сердобольная, а опять спросил: «Что же пишет синьор Лауро?» И она сказала — счета и ноты, потому что синьор сам сказал ей так. И это правда, потому что он ведь кассир и музыкант. Но отец Джачинто все не отпускал ее, хотя она уже покаялась во всех своих грехах, и все спрашивал, не пишет ли еще чего-нибудь синьор Лауро? И тогда она должна была признаться, что не знает, потому что синьор, когда занимается у себя в комнате, запирает дверь на ключ, чтобы его не беспокоили, а в замочную скважину разве разберешь, что он пишет?
И тогда отец Джачинто помолчал немного и сказал: «Я научу вас, дочь моя, как узнать даже сквозь замочную скважину, что пишет ваш хозяин. Если он пишет цифры или ноты, рука у него должна двигаться вот так, — и отец Джачинто показал ей движение вверх-вниз, вверх-вниз. — А если он пишет слова, то рука у него будет двигаться гораздо быстрее и вот так», — и отец Джачинто сделал движение по прямой линии и слева направо. Перпетуя не понимала, для чего это нужно отцу Джачинто, но сказала: «Да, падре, я постараюсь». И после этого отец Джачинто произнес молитву и отпустил ей грехи.
И, грохоча посудой, Перпетуя подумала, что сейчас как раз подходящая минута, чтобы узнать, что пишет синьор Лауро. Подглядывать в замочную скважину не грех, раз это ей велено отцом Джачинто. Перпетуя бросила кастрюлю, которую чистила толченым кирпичом, и вытерла руки о передник. Бесшумно ступая в соломенных туфлях, она подошла к двери спальни синьора Лауро и припала жадным глазом к замочной скважине. Вот тебе и раз! Темно. Неужели спит? Не мог же он уйти из дома, не сказав ей.
Перпетуя поковыряла пальцем в замочной скважине. Так и есть. Ключ в дверях. Спит, должно быть. Однако странно. Что это его так расстроило? Ведь он не скажет. Не то, что дон Винченцо, царство ему небесное.
Лауро Контарди сидел в кресле у стола. Он почему-то все вспоминал первое представление россиниевского «Севильского цирюльника». Память восстанавливала одну за другой подробности знаменательной премьеры. Да, много лет протекло с тех пор. Многое изменилось. Изменилась и жизнь. Изменились люди. И он сам стал иным. Постарел, наверно… Впрочем, постарел не один он, а все, кто были молоды в тот вечер. И сам маэстро Россини. Россини и старость — это казалось несовместимым. Но Россини не только постарел. Маэстро был тяжко болен. Вот уже двенадцать лет, как он не написал ни одной оперы. Ни одной! Он, который писал с такой легкостью и блеском! Что случилось с ним? Никто этого не знал. Родину свою он покинул, и странные о нем доходили слухи. Рассказывали, что он был одержим загадочным недугом — не мог слышать музыки, любой звук вызывал у него приступы нестерпимых страданий. По секрету передавали, что маэстро, творец и властелин самых гениальных звукосочетаний, не мог справиться со своим слухом. Всякий услышанный им звук рождал в его сознании некую воющую терцию, и эта неумолимая терция заглушала в его сознании любое музыкальное представление и сводила с ума несчастного композитора. Он лежал в темной комнате и никого не хотел видеть. Друзья не имели доступа к нему. И ухаживала за ним французская синьора, бывшая натурщица, которая по слухам ненавидит Италию и самого слова — Италия — слышать не хочет.
И вдруг три года назад маэстро неожиданно приехал в Милан, по внешнему виду выздоровевший… Но он ничего не написал, кроме пустячков, и не пожелал видеть никого из прежних друзей, так страстно жаждавших встречи с ним. Проводил дни в непрерывных и пустых развлечениях в обществе светских львов и праздных иностранцев. А потом уехал в Париж, так и не повидавшись ни с кем из друзей и разочаровав тех, которые так много от него ждали. И в Париже, говорят, опять заболел тяжко и мучительно и опять ничего не пишет.
Нет, Лауро Контарди не хотел думать о больном, стареющем в молчании Россини. Он опять представил его себе таким, каким он был много лет назад, в вечер премьеры «Севильского цирюльника» — молодым, прекрасным и жизнерадостным юношей, по горло занятым своим хлопотливым, сложным и небезопасным делом. Он видел его опять таким, каким он был в тот незабываемый вечер, когда он так горячо и упорно боролся за свою оперу, боролся до самого конца спектакля, до последней ноты певца, до последнего аккорда оркестра. И Лауро подумал, что это непосредственное участие в борьбе за жизнь оперы на сцене должно было всецело и безраздельно захватывать композитора во время премьеры, должно было отвлекать его от всего, кроме самого главного — борьбы за оперу. И эта борьба — реальная и напряженная — поневоле притупляла у композитора болезненное ощущение собственного поражения.