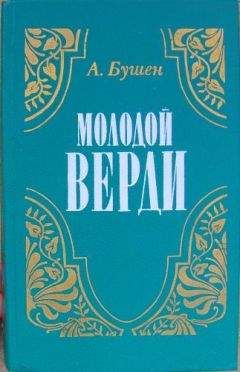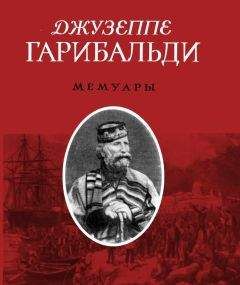Он собрался с духом и сказал:
— Жалованье очень маленькое, синьор комиссар. Никому не интересно подвергаться испытанию ради должности, которая так скудно оплачивается. Потому мы и не видели большого наплыва молодежи на этот конкурс.
— Отлично, — сказал комиссар. — Прощайте.
И подеста понял, что ничего не изменилось, что противник хитер и безжалостен и что неприятностям, распрям и раздорам не видно конца.
И так оно и было. Целых три года.
Маэстро Верди женился на Маргерите Барецци, старшей дочери синьора Антонио. Молодые поселились в палаццо Русска. В этом доме, небольшом, но поместительном, был удобный светлый зал для репетиций оркестра. Маэстро Верди вступил в должность и работал с утра до ночи. Ежедневно, не менее пяти часов он занимался с учениками музыкальной школы: он учил их игре на чембало, на органе и на фортепиано, учил их пению и теории музыки. После обеда он проводил репетиции с хором и оркестром Филармонического общества, а зачастую еще и со вторым оркестром, с духовым оркестром города — бандой. Немало времени отнимали у него занятия — подготовка и разучивание партий — с синьорами-любителями, членами Филармонического общества. Филармонисты, желая вознаградить себя за долгое бездействие, проявляли необыкновенное рвение. Все без исключения хотели выступать солистами и все требовали музыки, специально для них написанной. Тут уж маэстро приходилось напрягать все свои силы. Удовлетворить синьоров филармонистов было не так то просто. Все они считали себя отменными музыкантами и все предъявляли к композитору определенные требования. В общем эти требования сводились к одному: каждый хотел показать себя в самом выгодном свете, каждый хотел блеснуть тем, что ему больше удавалось. Поэтому один требовал побольше эффектных пассажей, другому же хотелось как можно меньше расставаться с широкой певучей кантиленой. Сообразуясь с этими желаниями и возможностями каждого исполнителя и должен был сочинять музыку маэстро.
Обычно он писал ночью. Днем у него на это не хватало времени. Он писал марши, хоры, увертюры, романсы, арии, концерты. Писал дивертисменты. Писал их для всех инструментов. Для струнных и для духовых. Однажды он написал дивертисмент для кларнета. Вещица получилась удачной. Слушатели не могли нахвалиться ею. На другой день к маэстро пришли трубачи. Они были очень обижены тем, что для них до сих пор не написано концертного номера. Тогда маэстро сочинил дивертисмент для двух труб и почти одновременно — концерт для валторны с вентилями. Концерт этот предназначался для кассира Филармонического общества Лауро Контарди. Маэстро сочинил его не потому, что Лауро обижался или надоедал ему, требуя музыки специально для него написанной, нет, вовсе не потому. Просто маэстро считал Контарди превосходным валторнистом и знал, что он горячий, всем сердцем преданный музыке музыкант. И маэстро чувствовал к нему симпатию.
Все сочинения Верди очень нравились публике. Филармония — оркестр, хор и солисты — постоянно выезжали на концерты не только в ближайшие селения, но и в значительные города — в Кремону, Парму. Концерты проходили с неизменным успехом. Маэстро выступал и как композитор, и как дирижер, и как пианист-виртуоз. И даже — для себя неожиданно — он стал очень популярным в качестве исполнителя. Однажды, это было осенью 1837 года, в Буссето, в помещении городского театра, зал был переполнен и в партере стоять было негде, маэстро с огромным успехом выступал с фортепианным концертом своего сочинения.
Но подеста в этот вечер заметил, что ни успех, ни растущая популярность как будто бы не трогают маэстро. Он выглядел утомленным, мрачным и озабоченным. И подесте пришло в голову, что Верди тяготится бесславной жизнью учителя музыки, руководителя оркестра и хора в провинциальном городишке. И, подумав, подеста признал это вполне естественным. Ибо какие же горизонты, какие перспективы могут открыться здесь перед композитором? Ровно никаких! Предвидится ли возможность совершенствоваться в любимом искусстве? Есть ли, по крайней мере, театр, где он мог бы применить свои молодые творческие силы? И подеста должен был признать: ничего такого в Буссето нет.
Жизнь в городке была для Верди трудной и безрадостной. Борьба партий не прекращалась. Пререкания между вердистами и ферраристами шли своим чередом. Иногда прорывалась наружу ненависть — застарелая, накипевшая, горькая. Прорывалась беспорядочными вспышками.
Поводы для этих вспышек возникали как будто бы сами собой. Несчастный органист Феррари остался в Буссето и пользовался неослабевающей поддержкой настоятеля и всего соборного причта. Вся клика лицемеров и ханжей была за него. Своей робкой, неумелой игрой в воскресные и праздничные дни Феррари поддерживал в соборе бесхитростное, однообразное пение прихожан. Однообразное поневоле. Потому, что богослужения проходили по-прежнему без музыки. Без солистов. Без хора. Без оркестра. Привыкнуть к этому никто не мог. Это было и тоскливо и позорно. Богослужение без музыки, точно в заброшенном селении! Богослужение без музыки — в городе, где самый лучший хор и самый лучший оркестр. Лучший оркестр и лучший хор во всем герцогстве Пармском!
А клерикалы указывали на Верди как на виновника всех этих неприятностей. О, они были опытными в искусстве интриги — эти клерикалы города Буссето! Они работали безошибочно. Они хорошо знали, как подогревается глухое недовольство.
Наступила осень. Лили дожди. На улице стало холодно. В кабинете подесты в первый раз затопили камин.
И в этот день подеста получил прошение, подписанное Джузеппе Верди. Джузеппе Верди просил освободить его от занимаемой им должности. Джузеппе Верди подал в отставку. По собственному желанию. Без объяснения причин. И сначала подеста глазам своим но поверил: не может быть, не может быть! И перечел прошение еще раз.
А потом пришел синьор Антонио. Он сел в кресло у камина и стал говорить. Как всегда толково и вразумительно. Да, Джузеппе Верди уезжает из Буссето. Он проработал в городе почти три года. Проработал самоотверженно и бескорыстно. Не жалея ни сил, ни времени. И теперь он считает, что работой своей он выплатил долг по отношению к городу и городской общественности. По отношению к благотворительным учреждениям, поддерживавшим его в годы учения в Милане. По отношению к Филармонии. По отношению ко всем жителям, любившим и защищавшим маэстро. Отплатил за все. За материальную поддержку и доброе отношение. Отплатил сторицей. Он считал себя обязанным поступить таким образом. Потому, что он такой. Щепетильно честный. И гордый. И теперь он расквитался с благодетелями. Теперь город и маэстро в расчете. Квиты. И он может уехать. Потому что делать ему здесь больше нечего.
Подеста с трудом приходил в себя от удивления.
— Куда же он едет?
— В Милан, — сказал синьор Антонио. — С готовой партитурой написанной им оперы. Попытать счастья.
Подеста был взволнован так сильно, как это редко с ним бывало. А казалось бы, отчего же теперь волноваться? Он понимал, что дела его обстоят как нельзя лучше, понимал, что найден выход из положения, которое еще вчера казалось ему безвыходным. Да, он понимал все это и волновался. Подеста был не только должностным лицом — он был любителем музыки и патриотом.
И он сказал:
— Ну что ж, пусть едет. Пошли ему бог счастье и удачу. Достойнейший человек и выдающийся музыкант! И, конечно, для нас его отъезд — большая потеря.
А потом настал день, когда Джузеппе Верди уехал из Буссето.
Это было в самом начале февраля. Всю ночь лил дождь. К утру он перестал, но день начался пасмурным и туманным, как обычно бывает в это время года. Туман был очень густым. Он окутал город сплошной пеленой. В двух шагах ничего нельзя было различить. Люди пробирались по улицам ощупью, вдоль стен. Дышалось с трудом. Тяжелый воздух был насыщен влагой.
К полудню туман стал редеть и расплываться. Выступили контуры домов и очертания улиц. Стало очень тепло. Но воздух оставался по-прежнему влажным и тяжелым.
Хотя полицейские агенты уже давно прохаживались мимо палаццо Русска — одежда на них совсем отсырела, — подеста решил сам присутствовать при отъезде маэстро. Это было вполне уместно. Он мог оказать эту честь семье синьора Антонио.
На улице возле дорожной кареты толпился народ. Конюх протирал тряпкой запотевшие стекла. Лошади, глубоко засунув морды в полосатые мешки, неторопливо жевали овес. Голуби, толкая друг друга, семенили у самых лошадиных ног, ловя и разыскивая упавшие зерна. Но одна из лошадей часто била копытом, и каждый раз испуганные голуби тяжело вспархивали и всей стаей садились на крышу соседнего дома. Они сидели там нахохлившись, а иные быстро бегали взад и вперед по карнизу, вытягивая шею и заглядывая вниз круглым немигающим глазом.