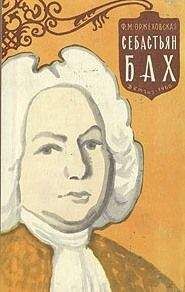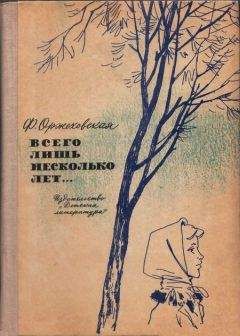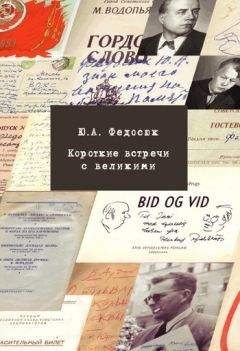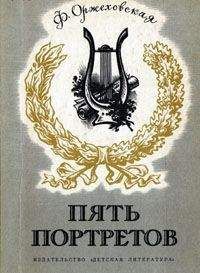Теперь, оглядываясь назад, я сказал бы, что в моей жизни, как в классической трагедии (пусть никого не смущает это слово — ведь бывают трагедии, полные оптимизма), всего пять действий. В первом — детство и робкое приобщение к искусству. Во втором — юность. Его содержание: горестное и радостное познание жизни. Третье, самое длинное, — годы странствований. Четвертое — зрелость и творческая жизнь в Веймаре. Свое пятое действие я назвал бы так: «Беспокойная и счастливая старость». Его я доигрываю теперь.
Шестого действия нет ни в одной пьесе — это я знаю. Продолжительность последнего действия ставится в вину автору лишь тогда, когда оно скучно и не наполнено содержанием. Но самое название моего пятого действия говорит о другом. Я, по крайней мере, не плачу, не жалуюсь, не отдыхаю, и жизнь мне не в тягость.
Итак, остановимся на четвертом действии.
Для своей «остановки» я выбрал город Веймар. Выбора, впрочем, не было. Я охотно избрал бы Пешт, но там не нашлось места главного дирижера, а я, вопреки слухам, не имел состояния и должен был служить.
Каролина Витгенштейн последовала за мной в Веймар; ее десятилетняя дочь, ровесница моей Козимы, поселилась вместе с нами.
Я думал, как и многие: Веймар — город, овеянный славой, здесь жили Гёте и Шиллер, здесь они основали национальный театр. В Веймаре жил Бах. Должно быть, в этом городе все театралы и любители музыки. Ради них стоит поднять веймарскую оперу на еще большую высоту.
«На еще большую высоту»! Я как-то дирижировал веймарским оркестром. Не все удовлетворяло меня, однако я не замечал больших недостатков. Но теперь, поселившись в Веймаре и приступив к работе оперного дирижера, я пришел в ужас.
Вот оно — начало моего «четвертого действия»: дирижер проверяет оркестр и труппу. В оркестре, где должно быть по крайней мере шестьдесят человек, я нашел лишь тридцать пять, в хоре — всего десять мужчин и тринадцать женщин. А балетных артистов, столь необходимых в опере, — всего четверо: двое юношей и две девушки. Что можно разучить при таком составе?
Люди приблизительно везде одинаковы. Есть хорошие. Есть плохие. Хороших все-таки значительно больше. Правда, люди не сразу раскрываются. Хороших людей я нашел и в веймарском театре — среди актеров и музыкантов. Иначе, как мог бы я за девять лет поставить там сорок три оперы, из которых более половины принадлежали авторам, еще живущим? Ведь известно, что композитору надо умереть, чтобы заслужить признание.
Как мог бы я исполнять симфонии Бетховена, как мог бы приучить веймарцев к Вагнеру и Берлиозу да еще к моим собственным симфоническим поэмам, которые и среди музыкантов считались слишком смелыми, если бы не поддержка оркестра? Я гнул свою линию, несмотря на то что директор театра вздрагивал от одного слова «новинка». А мне все присылали и присылали на отзыв партитуры из разных стран.
Мой дом был просторным, я отдыхал в нем от суеты. И работалось мне хорошо. Каролина преданно заботилась обо мне. В доме у себя я был спокоен. А за его пределами начиналась борьба.
Я писал прошения в магистратуру, чего раньше не приходилось делать. Я просил установить пенсию семи музыкантам, которые тридцать лет прослужили в оркестре. Это не разорило бы городское самоуправление, но там, должно быть, побоялись, что все старые музыканты начнут требовать пенсию. Мне вежливо отказали. Флейтист Гейер, знаток восемнадцатого века, сказал, что я напоминаю ему Себастьяна Баха, изнывающего в школе святого Фомы: Бах также писал разные прошения.
Казалось бы, что может быть естественнее, чем просьба пополнить оркестр недостающими инструментами? Но дирекция веймарского театра предлагала мне обойтись без арфы, без второй валторны, без ударных. Я ссылался на то, что в «Эврианте» [119] Вебера необходима валторна. Мне предлагали обойтись без «Эврианты».
Я уже не просил, а требовал увеличить число репетиций — нельзя же играть кое-как! «Задерживайтесь подольше», — отвечали мне. Мои славные музыканты собирались в неурочное время для репетиций, но ведь подобный энтузиазм не мог длиться годы.
Подобно тому, как король Лир, раздавший все дочерям, был уверен, что теперь-то они станут его почитать и любить, я, отрекшись от всего прежнего, думал, что к моим просьбам отнесутся хотя бы внимательно. Я ошибался, как и тот безумец.
Во многом я действовал на свой страх и риск: ставил оперы современных композиторов, неизданные симфонии — у меня ведь было много партитур. Композиторы верили мне, ждали от меня действий. Я не мог их обмануть.
Публика приходила из любопытства, но — увы! — не к серьезной музыке. В один вечер с Восьмой симфонией Бетховена шла дрянная комическая опера, под названием «Домашняя челядь». После «Реквиема» Моцарта показывали пошлейшую пантомиму «Королевский паштет». Какая-то парижская гадальщица, сомнительные фокусники, неискусные акробаты. А если бы и искусные? Разве уместно их появление после симфонии?
Еще не успевали оркестранты уйти со сцены после исполнения симфонии, а служители уже тащили прочь инструменты и пульты и посыпали песком пол — совсем как в цирке.
Вот что встретило меня в Веймаре в конце пятидесятых годов.
Что мне оставалось делать? Покинуть поле боя? Отказаться от «Лоэнгрина», от симфоний классиков? Ограничиться навязанным репертуаром? Об этом не могло быть речи, тем более что в театр приходила и моя публика, пусть немногочисленная, но крепкая. Два лагеря образовались в Веймаре среди посетителей театра — не по роду занятий, не по возрасту, а по мировоззрению. Я осмеливаюсь утверждать, что люди, сочувствовавшие мне, иначе относились к общественным вопросам, чем мои недоброжелатели. Я скоро убедился, что моя публика — это были развитые люди, демократы, сторонники революции.
Я начал борьбу. Конечно, не сразу удалось мне избавиться от фокусников. Директор театра не видел ничего дурного в чередовании пошлого и возвышенного. К тому же он боялся, что публика умрет от скуки, слушая симфонии и оперы. Но постепенно «чужая» публика, которая раньше поднимала шум и демонстративно покидала зал, как только на сцене появлялись музыканты, стала привыкать к нам и уже проникалась интересом к нашим программам.
С публикой было трудно, но нелегко и с артистами. Немало сил пришлось потратить для их воспитания.
Напрасно думают, что музыканты и актеры непременно одухотворенные люди. Многих — увы! — жизнь настолько изломала, что им стали чужды романтика и поэзия. А иные и с самого начала уже были ремесленниками. Стремление к красоте живет в каждом человеке независимо от его профессии, но я замечал, что именно артисты нередко сбиваются со своей прямой дороги и утрачивают ощущение прекрасного. Это я наблюдал и в Веймаре.
Оперы Вагнера, Берлиоза, даже Россини, за исключением «Севильского цирюльника», были здесь неизвестны. Понятие музыкальной драмы приходилось растолковывать впервые. Драма — это где «играют», опера — где «поют». Так по-детски воспринимали они эти понятия. Разумеется, у них был свой ремесленный опыт. Оперные артисты знали, что на сцене нельзя стоять неподвижно, и пытались изображать волнения и страсти жестами, достаточно нелепыми, но привычными и для публики, и для самих актеров.
Приходилось объяснять, читать лекции, приводить целые сцены из Гюго (которого я считаю идеальным драматургом), приносить на репетиции гравюры, принимать актеров у себя дома — одним словом, открыть для них целый университет искусств.
Я не закрывал свои двери и для посторонних. В моей большой «музыкальной», в первом этаже, проходили наши беседы, чтения, музицирование. И моя публика постепенно росла.
Но если было сравнительно нетрудно объяснить музыкальным и восприимчивым людям тайны оперного искусства, то симфоническую музыку нового направления мой оркестр долго не понимал. Да и классикам у нас не всегда везло. Бетховена играли так, словно он, уже оглохший, сидел в зале и должен был непременно услышать свое творение. Особенно усердствовали медные. С трудом удалось внушить оркестру, что музыка Бетховена многообразна и вовсе не оглушительна.
Я помню свои обращения к музыкантам. Жаль, что мне не пришло в голову записать их. Я импровизировал, но ведь это были мои давнишние мысли. Все, что накопилось в течение долгой жизни, что наболело, к чему возвращался неоднократно, я высказывал своим музыкантам.
Кстати скажу и о своих композиторских занятиях: с годами я стал сочинять быстрее и легче, но лишь потому, что многие из моих сочинений были, в сущности, давно готовы. Они передумывались и переживались задолго до того, как я вплотную приступал к ним. Не потому ли творчество в пожилые годы у иных художников бывает интенсивнее, чем в молодости. Ему предшествуют долгий опыт жизни и размышления над ней.