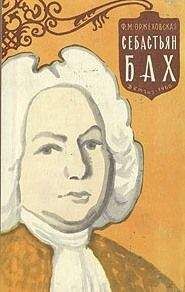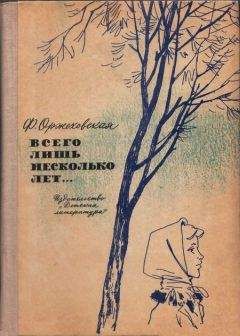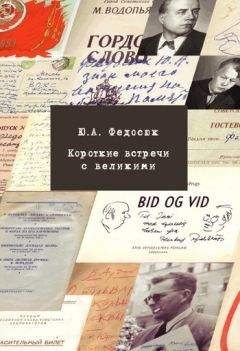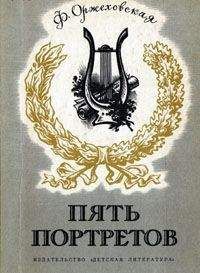Музыканты слушали мои объяснения вежливо, но не более. «Рассказывай свои сказки, если тебе хочется», — вот что я читал на их лицах.
Программная музыка при всей ее доступности встречала сопротивление. Тут были две причины. Во-первых, естественное отвращение к навязчивости, которую неизбежно заключает в себе всякое объяснение музыки. Некоторые программы бывают так назойливо подробны, что это одно может сковать воображение и слух. Я долго внушал оркестру, что не о такой программности идет речь.
Другая причина заключалась в том, что музыканты боялись критиков и верили им больше, чем своим братьям-исполнителям и композиторам. Отчего это происходит, я и сам не знаю. Может быть, оттого, что критические статьи написаны трудно и этим гипнотизируют читателей? Я спросил однажды нашего скрипача: неужели он думает, что пишущий или исполняющий музыку знает свое дело хуже, чем тот, кто не пишет и не исполняет?
— Ведь многие из вас окончили консерваторию!
Скрипач ответил:
— Да разве мы ученые? Мы только чувствуем — и все. — Он полагал, что чувству нельзя полностью доверять даже в таком деле, как искусство.
Была еще одна причина их отрицания программной музыки: какое-то непостижимое отсутствие любопытства.
Я встречал многих опытных музыкантов, отлично знавших свое дело, но очень мало или совсем не осведомленных в других сферах, даже очень близких к нашему искусству. Многие из моих веймарских артистов не знали, какова роль Наполеона в замысле «Героической симфонии», кто автор трагедии «Эгмонт», откуда возникло название «Сон в летнюю ночь». Они играли «Свадебный марш»[120] Мендельсона, нисколько не интересуясь, на чьей свадьбе разворачивается это блистательное шествие. В равной степени, разучивая увертюру к неизвестной опере, они оставались совершенно равнодушны к содержанию оперы и даже к ее музыке. Кто такая Эврианта, Леонора, Геновева[121], что это за женщины и женщины ли они или просто названия женского рода? Все это было безразлично. Музыканты привыкли видеть перед собой ноты и добросовестно придерживались немногочисленных указаний, обозначенных авторами. Они не пытались сами проникнуть в загадку музыки. И только чутье иногда смутно подсказывало им то, о чем они не имели понятия.
Но зато удивительные, хотя и редкие проявления этого чутья могли вознаградить самого требовательного дирижера. Люди, совсем простые, не получившие никакого образования, кроме музыкантского, то есть ремесленного, как будто и недалекие и грубоватые, обнаруживали тонкое понимание музыки и самой идеи, заложенной в опере или в симфонии. Я вспоминал неотесанную парижскую примадонну, которая неподражаемо пела в операх Моцарта. Приблизительно таким же феноменом был Иожеф Тихачек, лучший вагнеровский певец. Познакомившись с ним, я подумал: «До чего же он ограничен, чтобы не сказать глуп!» Посмотрев его в трудной роли Тангейзера, я понял, что Вагнер не мог и мечтать о лучшем исполнителе.
Но Тихачек был гениален, мои же веймарские музыканты не поднимались до таких высот.
Моя настойчивость не была напрасной: музыканты все-таки прислушивались к объяснениям. Они даже одобрили названия моих фортепианных этюдов: «Блуждающие огни», «Мазепа», «Метель».
«Совершенная метель!» — сказали они, когда я сыграл им этот любимый мной этюд. Но приходилось объяснять, что суть не в метели, а в обобщающей мысли — в бесприютности, одиночестве и мужестве путника, который идет навстречу метели.
Музыкальная программа только наводит на след, дает толчок воображению. Я никогда не был рабом программы, напротив, я часто уходил от нее. Иногда — даже в противоположную сторону. Это значило, что программа выбрана неудачно. Я должен признаться в этом. В некоторых моих симфонических поэмах музыка противоречит программе.
Я люблю свои «Прелюды», но стихотворение Ламартина «Прелюды», которое я взял как эпиграф к своей поэме, я теперь решительно не люблю. Оно кажется мне туманным и чуждым моему замыслу.
Какие прелюды, к чему? Оказывается, к будущей загробной жизни. «Все наше земное бытие, — так писал Ламартин, — это только прелюды к иному миру». Но я был далек от подобного толкования. Я пытался изобразить жизнь человека и его борьбу с враждебными силами, а вовсе не преддверие к загробному миру. Но эпиграф остался, и я не решался изменить его.
Или нет — надо быть искренним до конца. Вначале стихотворение Ламартина мне нравилось: я был под влиянием аббата Ламене. А затем, когда я стал сочинять музыку, ложная идея померкла. Так часто бывает.
Навещая меня в Веймаре, друзья нередко спрашивали: зачем я так резко повернул свою жизнь? Стоило ли одно рабство заменить другим, большим? Поступить на службу, сделаться капельмейстером, вместо того чтобы давать концерты всюду, где я захочу. «Да и было ли рабством твое прежнее положение? — так говорили мне. — Напрасно ты сетовал: ты не был рабом — ты повелевал, а теперь тебя третирует директор захолустного театра, в то время как раньше он же склонялся перед тобой и соглашался на все твои условия. Опомнись! И разве для того ты оставил концертную деятельность? Ты должен был освободить для себя время и всецело отдаться творчеству, а ты взвалил на себя новый груз».
Но друзья плохо разбирались в моем положении. Главное преимущество моей оседлой жизни перед прежней, кочевой заключалось не только в том, что я сберегал время, которое раньше тратил на переезды и подготовку к концертам. Главное было в том, что мои занятия с оркестром и оперными певцами — мое дирижирование приобщило меня к симфонической музыке. И если именно в Веймаре я написал своего «Тассо», «Орфея», «Прелюды» и все другие симфонические поэмы, то благодаря близкому знакомству с оркестром и законами оперы, то есть драматургии. Я и раньше знал симфоническую музыку, но одно дело — изучение оркестра по партитуре и слушание со стороны, другое — профессиональное, ежедневное общение с большой группой музыкантов. Я учился вместе с ними, узнавал тайны оркестра и симфонического искусства — и это обновило мое мышление.
Веймарский оркестр не скоро привык к моим симфоническим поэмам. Музыканты принимали их сначала за увертюры: и те и другие состояли из одной части. Но слух и опыт уловили разницу. Одна тема, настойчиво проводимая в разных тональностях и регистрах, подсказывала, что так не строятся увертюры; по-видимому, здесь новая форма.
Я объяснял ее как мог.
«Меняется жизнь, меняются обстоятельства, — говорил я. — И сам человек на протяжении жизни растет, мужает, борется. Вот почему так меняется первоначальная тема в этих музыкальных повестях, которые я вам преподношу. Тема появляется, как песня, как марш, иногда и в звуках траурного шествия. Меняется ее ритм, она возникает в разных тембрах: то один инструмент выдвигает ее вперед, поднимает на высоту, то целая группа инструментов. Но мы всегда узнаем ее как близкого друга, вернувшегося из странствий. Что бы с ним ни происходило, главное в нем уцелело. Есть множество психологических примет, выдающих нам душевные тайны другого, и есть много средств музыки, которые могут их запечатлеть. Но развитие единой темы, единого характера через многие испытания к нравственному торжеству, к апофеозу победившей идеи — вот принцип, породивший и форму симфонических поэм».
Я не скрывал, что люблю героику, люблю людей с сильной волей. Но только в испытаниях крепнет мужество. Вот почему я не чуждаюсь контрастов, не страшусь мрака, не боюсь повергнуть своего героя в печаль и даже в скорбь. Он все равно останется героем. Прометей гордо примет свою казнь, а Орфей[122] отправится в подземный мир за Эвридикой. Нет, что ни говори, а это было счастливое время, когда я разучивал с оркестром свою и чужую музыку. После каждой репетиции путь, избранный мной, становился более ясным и ровным.
Мне вспоминаются многие и многие люди, которых я любил.
Часто думаю теперь о Роберте Шумане. Я всегда отдавал дань его уму, знаниям, литературному и критическому дару. Но более всего восхищался его небывалым и щедрым даром музыки.
Творчество Шумана покоряет не сразу. Его пьесы не из тех, которые становятся любимыми после первого исполнения, как, например, музыка Шопена. Это странно: как мелодист Шуман не уступает Шопену, а все же он может сразу и не понравиться. Есть музыка, которая приходит к нам, и есть другая, к которой мы должны прийти. Такова музыка Шумана. Я сам долго не умел исполнять ее, а «Карнавал» мне прямо не удавался. И лишь теперь, когда я уже не даю концертов, я начинаю разбираться в этом богатстве.
В житейских делах Шуман был совершенно непрактичен, иногда до беспомощности. В редких случаях он почему-то хотел казаться деловым, и это не удавалось ему. Но как только речь заходила об искусстве — о, тут он был в своей стихии! Все, что он говорил тогда, было ново, увлекательно и… очень далеко от здравого смысла.