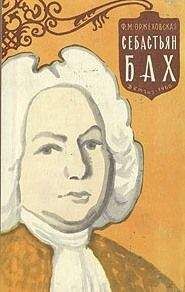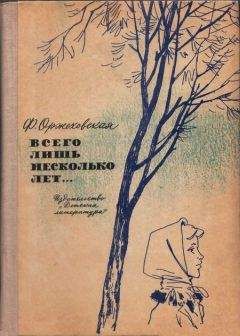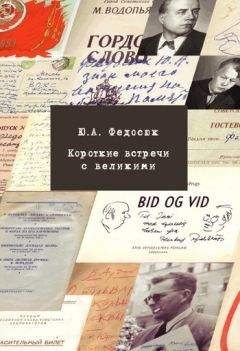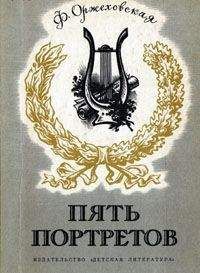Гунтер давно слыхал молву о спящей валькирии и об ее чудесном пробуждении. И вот под его кровом очутился тот самый герой, единственный, кто мог невредимым проникнуть сквозь пламя. Но проклятие нибелунгов должно сбыться. Хаген наполняет рог крепким напитком забвения, а юная Гутруна подносит его гостю.
И пока Зигфрид осушает рог, заглядевшись на прекрасную девушку, чары затуманивают его мозг. Словно никогда не было ни огненной стены, ни Брунгильды, ни их любви… Забвение наступило; оно влечет за собой вероломство. Отныне участь Зигфрида решена.
Бесконечные блуждающие диссонансы, на фоне которых резко и странно выделяются отдельные мотивы: геройский, но слишком помпезный мотив Гунтера; угрожающий, словно подземный, мотив Хагена. Но гармонические блуждания в оркестре становятся еще красноречивее: они подготовляют к неизбежному, и сумрачный колорит больше не рассеивается.
— Если ты выбрал сестру мою, о храбрый гость, я потребую и от тебя услуги: прими мой образ и пройди через огненную стену.
И как беспечно Зигфрид соглашается на это!
— Отныне ты мой названый брат, а что касается славы, то ее хватит на двоих…
Бурный вечер, полный зловещих примет. Закат угрюм, тучи несутся по небу. Одна из туч принимает очертания могучей женщины. Это сестра Брунгильды — Вальтраута, опора павших.
Как часто среди большого напряжения замечаешь ненужные подробности, мелочи! Зритель, сидящий впереди, записывает что-то в книжечку. В зале не совсем темно — отсвет идет от сцены. Видно, как зритель — должно быть, журналист — записывает: «Приезжает Вальтраута». Забавно! В чем же она приезжает? В экипаже или в кабриолете? Вот как иногда описываются сказки!
Но внимание снова поглощено оперой.
— Дурные вести! — сообщает сестра Брунгильды. — Только одно может спасти Валгаллу. Брось в пучину кольцо, пожертвуй им, сестра, и мы все спасемся.
Но Брунгильда теперь ничего не знает о будущем, ей ведома только любовь. Она не отдаст кольца… Теперь журналист записывает: «Вальтраута уезжает».
Какой ненастный вечер! Какая долгая тоска! Разгорается пламя, звенят доспехи. Но это не Зигфрид вернулся, кто-то чужой и страшный проник сквозь огонь. Мудрость валькирии могла бы подсказать несчастной, что Зигфрид принял чужой облик. Но смертная женщина, какой стала теперь Брунгильда, не допустит мысли о предательстве возлюбленного.
Чужой сказал: «Теперь ты моя. Я прошел через пламя. Я увезу тебя в свою страну», — и снял с ее руки кольцо.
Теперь Брунгильде предстояли тяжкие муки. Отчаяние и страх перед загадкой. Унижение. Позорное прибытие в страну гибихунгов и встреча с Зигфридом, который не узнал ее. Он клялся на копье, что никогда не видал эту женщину, никогда не говорил с ней! Зигфрид, ради которого она сама была готова отказаться от бессмертия!
Брунгильда видела Гутруну рядом с Зигфридом на их свадьбе. Ее свадьбу с Гунтером справляли в тот же день. Она была смертной женщиной и не могла вынести своих страданий.
При мысли о Гутруне ярость ослепила ее, и она внушила Гунтеру свирепую вражду к его другу, открыла ему и Хагену тайну неуязвимости героя. И через день на охоте Зигфрид был предательски убит ударом копья в спину. Его друг — лесная птичка предостерегала его. Но что знает об осторожности тот, кому неведом страх?
Луна висела в небе, как багровый щит, и лес содрогался от ветра, когда умирающего Зигфрида принесли в замок. Гутруна уже с утра бродила в тоске, угнетаемая предчувствиями, а теперь она с воплем бросилась на тело. Но перед кончиной память вернулась к Зигфриду, и он узнал Брунгильду. Ее имя, а не имя Гутруны повторял он в свой смертный час.
В шествии Зигфрида сплетались многие напевы. Восемь? Девять? Двенадцать? Вилли не уловил сразу. Но картины и образы всей жизни Зигфрида и даже те, что предшествовали его рождению, сопровождали его во время шествия, провожали в последний путь. Тени его родителей — Зигмунда и Зиглинды; Вотан с его ослепительным мечом; Брунгильда, полная величия; поющая птичка-предсказательница… Мотивы любви, счастья, судьбы, мотив смерти с его беспощадным ритмом чередовались, сталкивались, сливались, то утихая, то разрастаясь. Поистине сам Вагнер не создавал еще подобной музыки!
…Может быть, этим и следовало закончить? Разве не ясно, что после этого шествия, после гибели Зигфрида, осиротел мир и лишились могущества боги? Пусть потрясенные зрители сами в тишине додумают развязку.
Но опера продолжалась. В борьбе за обладание кольцом Хаген убил брата. Рейн затопил жилище Гунтера. В огне рушилась Валгалла. Но в прежнем величии, в сиянии обретенной мудрости предстала перед нами Брунгильда.
Она велела сложить большой костер и, когда он разгорелся, сама бросилась в огонь. В нем сгорело тело героя, здесь и ее смертная оболочка найдет конец.
А дочери Рейна, охраняющие бесполезный клад, пели вдалеке свою колыбельную песню. «Вейа! Вага! Вага ля вейа!»[168] — слышалось в ночной тишине.
После четырех вечеров гости Байрейта были настолько утомлены, что даже не обменивались мнениями, пока находились в театре. Вагнер был окружен густой толпой, и его нельзя было разглядеть.
Мюнхенский музыкант возвращался к себе один. Ему не хотелось, как после «Золота Рейна», говорить с другими посетителями, даже с синьором Личчио. Несомненно, появится масса рецензий, статей, разборов. Жаль, что нельзя поговорить с самим Вагнером.
Расспросить бы его, отчего так изменился его прекрасный замысел. Тяжело поверить, что Зигфрид гибнет зря. К чему же эти силы, молодость, отвага? Не знал страха — кому же еще освободить человечество? А вместо этого гибнет земля, гибнет Валгалла — и это цель борьбы? И двадцать шесть лет труда потрачены на то, чтобы доказать, что все обречено, что воля бессильна и над всем властен слепой рок?
Или он хотел доказать, что человек никогда не освободится от власти золота, что скрытая в сердцах слепая, жадная сила сама должна привести мир к гибели? Неужели он не знает, какая борьба идет на земле?
Любопытно, что он ответил бы. Но нет, он никогда не скажет ничего полнее и вразумительнее, чем сказал в своей музыке.
И разве не ясно, откуда он взял своего Вотана? Только не из древней легенды. Скорее, это его современник и ровесник, запутавшийся в противоречиях жизни. Нет, он не собирался произносить суд над человечеством. Он хотел рассказать о себе и о своем поколении. Разве он не имеет на это права?
И разве художник должен всегда оправдываться и объяснять свои создания? Их можно отвергнуть, если они не внушили любви. И какие бы верные истины он ни пытался внушить, они не будут услышаны, раз не дошли до сердца.
Но если музыка покорила нас, что прибавят его объяснения? И, если даже они будут неудовлетворительны, ослабит ли это любовь к нему? Нет. Мне скажут: «Не так должен был погибнуть Зигфрид, он был создан для другого». Но разве, проникшись этой мыслью, я с меньшим восторгом буду слушать его «Траурное шествие»? Передавали, будто Чайковский сказал: «Возможно, что „Кольцо Нибелунга“ останется в Байрейте, как в музее». Что ж, в музей приходят люди, иначе незачем его открывать. А где люди, там и жизнь.
1883 год, 13 февраля
Когда гости ушли, а их собралось сегодня много, Вагнер зашел к себе в кабинет, где уже был приготовлен халат на меховой подкладке. О сне не могло быть речи. Козима придвинула кресло к окну и принесла еще плед. Она любила сама прислуживать Вагнеру. Особенно в последнее время, когда усилилась его болезнь, она не допускала к нему даже доверенного слугу.
Ему всегда было холодно: он носил стеганые жилеты, теплые пальто весной и даже здесь, в Венеции. Тем не менее Вагнер попросил открыть окно. Козима не без тревоги повиновалась.
Уже наступила ночь. Беззвездное небо сливалось с темным озером. Но воздух был свежий, запах деревьев доносился из палисадника.
— Гостей было много, — сказала Козима, — и министр приехал…
— И зачем они тебе понадобились?
— Через три месяца твое рождение. Сегодня была как бы генеральная репетиция.
Она сказала это шутя, но, надо признаться, забота о внешнем блеске усилилась в ней, с тех пор как они поселились в Байрейте. Она следила за тем, чтобы к обеду приглашались титулованные гости, чтобы сервировка была изысканна, а слуги — внушительно безмолвны. И, когда Вагнер входил в столовую и видел украшенный, блистающий и гнущийся под яствами стол с великолепными винами и пышными цветами, он насмешливо говорил себе: «Под стать вагнеровской инструментовке». Когда он сказал это однажды Козиме, она, столь чуткая к юмору, оскорбилась. Юмору не было места теперь, когда их так возвеличили, когда они у всех на виду. Теперь надо забывать о собственном удовольствии и выполнять свое назначение, как бы это ни было трудно.
— Даниэлла[169], вероятно, получит приглашение во дворец, — сказала Козима.