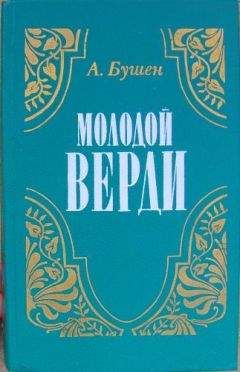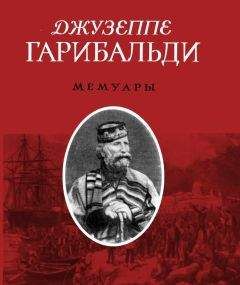В Имперской канцелярии были весьма опытные чиновники — мастера-виртуозы по составлению бумаг. Приказы сочинялись быстро. Фон Гартиг подписывал их каждый день.
И уже девятого июля директору консерватории графу Сормани Андреани был вручен доставленный из Имперской канцелярии пакет. Это был по всем правилам отредактированный приказ за подписью генерал-губернатора. «Ознакомившись, — гласил приказ, — с обстоятельствами дела, изложенного Вами в рапорте от 3-го числа текущего месяца за № 198, о ходатайстве Джузеппе Верди, который на четыре года старше, чем установлено для поступления в консерваторию, Правительство постановило: ходатайство вышеназванного Верди отклонить».
Вот и все. Коротко и ясно. На другой день с утра в консерватории был вывешен список выдержавших испытания в высшую Миланскую музыкальную школу. Список был вывешен в самом здании консерватории, в вестибюле и на видном месте во дворе на стене, как раз напротив входа. Лист белой бумаги был вставлен в старую деревянную рамку, и солнце в этот день припекало так жарко, что через три часа бумага пожелтела.
Счастливцев, признанных достойными поступить в консерваторию, было всего пять. Первым в списке стоял восьмилетний Джузеппе Вернокки. Кроме него приняли трех мальчиков. Из них двум было по десяти лет, а одному двенадцать. И еще приняли одного взрослого. В класс пения: у него был прекрасный голос — бас. Звали его Луиджи Валли. Ему шел восемнадцатый год. Однако ничего нарушающего устав в факте приема такого взрослого юноши не было. Для поступающих в классы пения существовали особые правила. Молодых людей принимали в эти классы только после окончания периода мутации (ломки) голоса.
Имени Джузеппе Верди в списке не было. Джузеппе Верди не был принят.
Вот как обстояло дело с поступлением его в консерваторию.
Но Лауро Контарди ничего этого не знал и знать не мог. Знали об этом только маэстро Провези и Антонио Барецци. Фердинанду Провези написал обо всем старик Ролла. Описал во всех подробностях, как происходил экзамен, и прислал копии с некоторых имевших отношение к делу документов. Прислал копию с отзыва экзаменационной комиссии, копию с доклада Базили директору консерватории графу Сормани Андреани, прислал даже копию с приказа, подписанного австрийским генерал-губернатором Милана, графом Францем фон Гартигом.
А Провези показал все это — письмо и документы — синьору Антонио. И в Буссето только они, маэстро Провези и синьор Антонио, знали правду о том, как Джузеппе Верди не был принят в консерваторию. А остальные горожане, жители Буссето, ничего толком не знали, и слухи о неудачной попытке молодого Верди поступить в Миланскую высшую музыкальную школу ходили самые противоречивые. Определенно известно было только одно: Верди в консерваторию не принят, но остается в Милане и будет заниматься частным образом у Винченцо Лавиньи, концертмейстера театра Ла Скала. Об этом говорили все. Знал это и Лауро Контарди. Но в то время как другие принимали неудачу, постигшую молодого Верди, как нечто уже совершившееся и потому непоправимое, как нечто, к чему бессмысленно возвращаться, Лауро не сдавался и все старался разгадать смысл происшествия, которое казалось ему таинственным и наводящим на самые печальные размышления. Но потом и он успокоился и даже хитро ухмылялся в бороду. Он был уверен, что нашел разгадку нелепого факта. Не сумели распознать подлинного дарования миланские чиновники. Именно «чиновники». Другого названия для них не придумать. Кто они такие, эти экзаменаторы? Чиновники, конечно, а не музыканты. Да еще чиновники, состоящие на службе у австрийского начальства. Что могли они расслышать и понять в музыке молодого Верди?
Зато как ликовал Контарди, когда первая опера Джузеппе «Оберто, граф ди Сан Бонифаччо» была поставлена на сцене театра Ла Скала. Это было победой, и Лауро счел эту победу счастливым предзнаменованием для будущности молодого композитора. Опера имела успех. Лауро Контарди отметил это в своем дневнике. И на этот раз он не ограничился одной лаконичной записью. Он переписал в дневник все выдержки из миланских газет и журналов, в которых хвалили оперу Джузеппе. И он ждал дальнейшего развития событий. Он знал, что импресарио Мерелли, знаменитый и всесильный Мерелли, заключил с Верди контракт на три оперы. Знал, что Джузеппе уже начал писать…
И вдруг — смерть Маргериты. Сначала Лауро не придал большого значения печальному событию. Он всегда считал, что незачем было Джузеппе так рано жениться и обзаводиться семьей. К чему это? Композитор, призванный новыми напевами воспеть и прославить родину, — все равно, что воин. А у воина должны быть свободны руки. Где ж это видано — идти в поход с женой и детскими колясками? Но он простил Джузеппе его женитьбу — бог с ним, — раз семья не помешала ему написать хорошую оперу. Все же, когда умерли дети, Лауро Контарди про себя подумал, что большой беды в этом, пожалуй, и нет. Меньше забот о хлебе насущном, меньше необходимости тратить многие и многие часы на работу кропотливую и бесславную. А когда умерла и Маргерита, Лауро Контарди подумал, что теперь у Джузеппе окончательно развязаны руки. Хотя Маргерита была славной женщиной. Лучше многих. Не кокеткой и не франтихой. Но все же — бог с ней! Мир праху! Не она первая, не она последняя. А Джузеппе убиваться нечего. Он молод. Перед ним вся жизнь. А с женщинами просто. Одну потеряешь, десять найдешь.
Но сегодня, когда Лауро увидел композитора, он понял, что дело обстоит не так, как он думал. И с растущей тревогой он все спрашивал себя: «Что же будет с новой оперой?»
Что было с новой оперой он узнал тогда, когда эта новая опера — комическая — «Царство на один день» была поставлена в театре Ла Скала. Узнал через два с половиной месяца. В сентябре. Узнал со всеми подробностями. О представлении рассказал ему очевидец, его приятель Убальдо Аккарини, торговец галантереей и виолончелист оркестра филармонии. Он ездил в Милан за пополнением ассортимента товаров для своей лавки и был в театре на представлении новой оперы.
Лауро Контарди пошел к Убальдо под вечор. Солнце садилось. В полутемном помещении толпился народ. Лауро с трудом протолкался к прилавку. Убальдо расхваливал нерешительной покупательнице приведенную им сегодня широкую тесьму. Женщина колебалась. Она была приезжей и никого в городе не знала. Внешность Убальдо не внушала ей доверия. Кожа у него на лице была гладкой, точно на картонной маске. Большой мясистый нос казался бутафорским. Плутоватые глаза сильно косили.
Увидев приятеля, Убальдо многозначительно подмигнул ему.
— Санта, я ухожу, — сказал он жене.
— Мне одной не справиться, — сказала Санта.
— Пора кончать торговлю, — сказал Убальдо.
Они поднялись по лестнице во второй этаж. Убальдо закрыл дверь и повернулся к Лауро. Он выглядел растерянным и сконфуженным. Правый глаз косил так сильно, точно хотел рассмотреть переносицу.
— Фиаско, — сказал Убальдо. — Фиаско, фиаско. Боже мой, какое фиаско! — И он схватился за голову.
— Тише, тише, — сказал Лауро. — Не кричи, прошу тебя.
От неожиданности у него перехватило дыхание, и он заговорил прерывающимся, внезапно охрипшим голосом.
— Я не кричу, — сказал Убальдо. — Это в самом деле неслыханное, небывалое фиаско. Самые старые завсегдатаи театра не припоминают ничего подобного.
— Рассказывай все, как было, — сказал Лауро.
— Свистели, — сказал Убальдо. — Боже мой, как свистели! Откуда только достали такие огромные ключи? Как ножами резали.
— С самого начала? — спросил Лауро.
— С увертюры. Так пронзительно, что заглушали оркестр. А потом пошел кошачий концерт. Музыки вовсе не стало слышно. Только свист, свист и свист. И крики — Basta! Basta!
— Не понимаю, — сказал Лауро. На лбу у него выступили крупные капли пота.
Он знал отдельные отрывки из оперы Верди, отдельные отрывки из той части, которая была закончена до последнего несчастья, постигшего молодого композитора. Это была музыка, написанная с большим талантом и знанием дела. Лауро мог подтвердить это в любую минуту. Он был готов поклясться в этом.
— Я слышал четыре номера, под которыми не стыдно было бы подписаться любому мастеру, — сказал он. — Сам Доницетти не отказался бы от них.
Остальной музыки Лауро Контарди не знал. Она была написана героическим усилием воли. В августе. В Милане, куда композитора вызвал импресарио Мерелли. Он вызвал Верди в Милан письмом. Об этом письме говорил Контарди Антонио Барецци. Мерелли выражал композитору соболезнование по поводу понесенной им утраты, но требовал обусловленную по договору комическую оперу. Именно комическая была ему нужна. И так как времени до срока сдачи оперы оставалось мало, Мерелли требовал немедленного приезда Верди в Милан. На просьбу композитора о расторжении договора он ответил отказом во втором письме, где он писал о долге, об обязанностях перед обществом, о дисциплине — словом, о разных высоких материях. О, он отлично знал, с кем имеет дело, этот Мерелли! Джузеппе был такой: он мог разорвать себе сердце, лишь бы не совершить поступка, который даже издали казался бы нечестным. И он живо собрался и поехал. Все это Барецци рассказал Лауро тогда же. И они оба пришли к заключению, что хотя Мерелли и жесток, но, может быть, на этот раз его жестокость — к лучшему. Синьор Антонио говорил, что состояние подавленности, в котором находится Джузеппе, внушает ему серьезные опасения. Может быть, необходимость писать новую оперу отвлечет композитора от тягостных размышлений. Любимое искусство должно помочь ему перенести постигшее его несчастье. И он — Лауро — тоже так думал. И что же получилось? Результат теперь налицо. Теперь уж ясно, что не надо было композитору пересиливать и приневоливать себя. Разве мог он, подавленный и удрученный, писать комическую оперу? Комическую!.. Боже мой!..