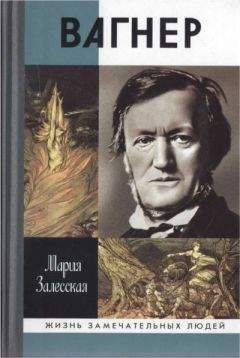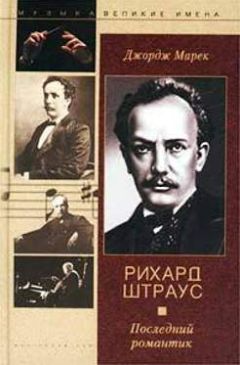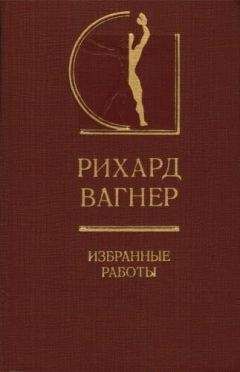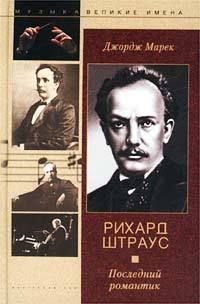После такого успеха Лаубе предложил Вагнеру свой готовый оперный текст, который первоначально предназначался им для Мейербера[67]. Лаубе, знавший о глубоком сочувствии Вагнера Польскому восстанию, рассчитывал, что сюжет будущей героической оперы «Костюшко» будет полностью отвечать чаяниям молодого композитора.
Надо сказать, что Мейербер впоследствии будет восприниматься наряду с Брамсом главным антиподом Вагнера. Вскоре именно этот композитор станет законодателем парижской «оперной моды», именно ему станет приписывать Вагнер свои неудачи в Париже. Но в то время, когда их имена в первый раз прозвучали вместе и они впервые, можно сказать, столкнулись на поприще оперного искусства, Вагнер был далек от вражды. Более того, он практически не был знаком с музыкой Мейербера и мог судить о ней исключительно с чужих слов — восторженных газетных рецензий, где того называли «музыкальным новатором» и «гением».
Но отказ Вагнера от предложения Лаубе был продиктован отнюдь не страхом конкуренции с более опытным «товарищем по цеху». Лаубе и Вагнер — либреттист и композитор — принципиально разошлись во взглядах на трактовку будущего музыкального произведения. Вагнер, по его собственным словам, «сразу почувствовал, что Лаубе заблуждается относительно характера воспроизведения исторических событий… и в высшей степени удивился моему требованию чего-либо иного, кроме чрезвычайно изобилующей событиями истории польской борьбы за освобождение в лице одного из главных ее героев… Была, разумеется, тут и неизбежная полька, полюбившая русского, благодаря чему трагические любовные положения создавались сами собой»[68]. Подобный сюжет уже никак не мог удовлетворить начинающего оперного композитора. Более того, именно после нескольких стычек с Лаубе Вагнер твердо решил, что все либретто для своих будущих опер будет писать только сам.
И он не замедлил воплотить свое решение в жизнь. Лаубе был искренне удивлен, когда узнал, что Вагнер предпочел героическому сюжету «Костюшко»… драматическую сказку Карло Гоцци (1720–1806) «Женщина-змея», которую, естественно, переделал по-своему. Кстати, идея написать оперу на этот сюжет впервые родилась у него еще в 1832 году. Тогда она была временно оставлена ради «Свадьбы». Теперь ее время пришло.
Фея Ада любит принца Ариндаля и держит его плененным в своей волшебной стране. Тот и не подозревает, что его отчизна тем временем захвачена врагами. Но друзья принца после долгих поисков находят его и сообщают ужасное известие. Ада освобождает Ариндаля и сама посылает его на родину. Заклятием рока ей назначено возложить на принца самые суровые испытания, но ни при каких условиях он не должен ее отвергнуть, в каком бы отвратительном виде она перед ним ни предстала. Только так возлюбленный феи может обратить ее в смертную любящую женщину, способную разделить его участь. Вернувшись в разоренную страну, Ариндаль совсем падает духом. В довершение всех бед его возлюбленная, повинуясь року, является к нему и старается невообразимой жестокостью своих поступков поколебать его веру в нее. Ариндаль впадает в безумие: ему кажется, что он находится во власти злых сил; он посылает на Аду страшные проклятия. Объятая отчаянием, фея открывает Ариндалю правду и тем самым нарушает клятву фей. За это она осуждена быть навеки превращенной в камень (у Гоцци — в змею). Ариндаль видит, что все ужасы, вызванные феей, были лишь миражами: враги побеждены, страна процветает, и только свою возлюбленную он потерял навсегда. Исполнительницы заклятия, чтобы добиться гибели Ариндаля, зовут его в подземный мир под предлогом спасения Ады. Словно новый Орфей в поисках своей Эвридики спускается Ариндаль за предательницами-феями в царство теней. Однако перед этим верный принцу волшебник снабжает его чудесным оружием и волшебной лирой. В подземном царстве Ариндаль побеждает одно чудовище за другим и, наконец, останавливается перед камнем, имеющим очертания человека. Злые феи велят ему расколоть камень, в котором якобы скрыта Ада. Но вместо этого Ариндаль, оставив свой меч, обращается к лире и под ее звуки изливает перед камнем раскаяние и любовную тоску. Злые чары побеждены, камень превращается в Аду, и перед возлюбленными открывается всё великолепие волшебного мира…
В создание либретто Вагнер вложил весь свой поэтический талант. Именно в этой опере впервые им разрабатывается идея искупления проклятия силой любви.
Но слава поэта и драматурга, о которой Вагнер мечтал в ранней юности при написании «Лойбальда и Аделаиды», теперь беспокоила его мало. Он понял, что лишь в сочетании с музыкой поэтический текст раскрывается во всей полноте. Это был первый и очень важный шаг к будущей идее синтеза искусств. «Я сделался настоящим „музыкантом“ и „композитором“, желавшим создать для себя приличный „оперный текст“ и убедившимся, что никто другой не в состоянии этого сделать, так как оперный текст сам по себе есть нечто совершенно особенное и не может быть написан ни поэтом, ни литератором»[69]. Вагнер, можно сказать, окончательно стал Вагнером!
Не прерывая работу над новой оперой, которой он дал название «Феи» (Die Feen), в январе 1833 года композитор покинул Лейпциг и отправился навестить своего старшего брата Альберта в Вюрцбург, где тот служил в местном театре. Рихард надеялся, что брат поможет ему на практике применить свои музыкальные способности. Альберт действительно помог: по его протекции Вагнеру предложили временное место хормейстера в Вюрцбургском театре с жалованьем десять гульденов[70] в месяц.
Работа на новом месте началась для Вагнера с разучивания двух больших партитур: опер «Вампир» Маршнера, с музыкой которого он был уже давно знаком, и «Роберт-Дьявол» Мейербера. Тогда-то Вагнер, наконец, познакомился с одним из главных сочинений «парижского маэстро».
Надо отметить, что еще без всякого субъективизма, порожденного антипатией к личности самого композитора, произведение Мейербера Вагнеру совершенно не понравилось: «Партитура „Роберта“ меня сильно разочаровала: по газетным отчетам я ожидал необычайной оригинальности и эксцентрических новшеств. Ничего подобного я не нашел в этом насквозь плоском произведении, и опера, в которой встречался финал, подобный финалу второго акта, никоим образом не могла быть отнесена к разряду моих излюбленных образцов музыкального творчества. Только подземная труба с клапанами — голос призрака матери в последнем акте — импонировала мне… В конце концов я воспринял эти пустые, аффектированные, подражающие всем современным манерам мелодии лишь с точки зрения их пригодности вызвать одобрение публики»[71].
Конечно, можно сказать, что композитор вспоминал этот эпизод уже после конфликта с Мейербером и не упустил случая еще раз кольнуть противника. Однако в данном случае нам кажется, что Вагнер достаточно объективен. Музыка Мейербера слишком отличалась от всего того, что, пока еще интуитивно, искал Вагнер. Зато «голос призрака матери» был вполне в его духе, что он честно и отмечает. Во всяком случае, уже по одному приведенному отрывку видно, что конфликт с Мейербером был неизбежен и носил не только личностный, но и принципиально-идейный характер.
Но не одна музыка занимала в то время сердце молодого композитора. В Вюрцбурге он впервые влюбился в дочь могильщика Терезу Рингельман (Ringelmann). Ее сильное красивое сопрано позволило Вагнеру надеяться, что он сумеет сделать из нее большую певицу. Естественно, никакой вокальной методой Вагнер тогда не владел, но уроки пения были тем предлогом, который позволял влюбленным видеться часто, не возбуждая подозрений у окружающих. Однако эти отношения быстро сошли на нет. То ли Вагнер не смог примириться с мыслью, что его потенциальным тестем будет «жуткий могильщик», то ли виной всему стало «убогое образование» Терезы, то ли молодой человек осознал всю несерьезность своего чувства. Так или иначе, Рихард и Тереза быстро расстались, не испытывая при этом никаких сердечных страданий.
Более задушевный роман завязался у Вагнера с дочерью механика Фредерикой Гальвани (Galvani), девушкой ярко выраженного итальянского типа: «Она была очень мала ростом, имела большие черные глаза и нежное сложение»[72]. Стоит ли говорить, что она также была певицей? Альберт устроил ей дебют в театре, оказавшийся удачным. Рихард в свою очередь заставил обратить на себя внимание начинающей певицы. Сложность заключалась лишь в том, что у Фредерики был жених — первый гобоист театрального оркестра, питавший к ней давнюю и прочную привязанность. События стремительно развивались. Однажды все трое молодых людей были приглашены на деревенскую свадьбу. Разгоряченный терпким франконским вином, Вагнер начал оказывать девушке явные знаки внимания; проносясь в бешеном танце по рядам собравшихся крестьян, они даже несколько раз обнялись и поцеловались. Бедный гобоист заметил, что у него появился соперник, но не мог прервать игру в деревенском оркестре, аккомпанировавшем танцующим, и был не в силах ничего предпринять. В Вагнере проснулось чувство самодовольства: он способен произвести благоприятное впечатление на девушку и достойно выдержать любую конкуренцию. Веселье продолжалось. Когда уже далеко за полночь вся компания возвращалась в Вюрцбург, молодые, несмотря на усталость, уединились и встретили рассвет, тесно прижавшись друг к другу, под пение жаворонков, «несшееся навстречу восходящему солнцу». Вскоре Вагнер был принят в доме своей возлюбленной, в отличие от «официального» жениха, которому до свадьбы вход туда был заказан. Несмотря на двусмысленность сложившегося положения, и Фредерика, и, в первую очередь, Рихард не помышляли о том, чтобы связать себя узами брака. Вагнер вспоминал: «Никто не рассчитывал на какие-нибудь гражданские последствия, и в этом именно и заключалась вся привлекательная и лестная сторона моего первого юношеского увлечения, не выродившегося в сближение, полное дум и забот»[73]. Эти отношения закончились сами собой с отъездом Вагнера из Вюрцбурга. Впоследствии он лишь узнал, что Фредерика вернулась к своему гобоисту и сделалась матерью еще до того, как вышла за него замуж…