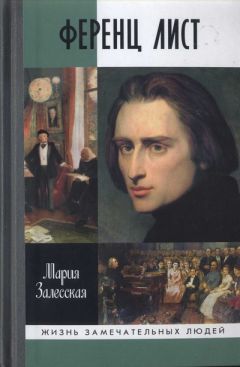Второго сентября Лист покинул Байройт. Он вновь отправился в Ганновер, где встретился с Гансом фон Бюловом, найдя его больным после напряженного гастрольного тура по Америке. В течение двух недель — с 24 сентября по 5 октября — Лист неотлучно находился рядом с Гансом, болезнь которого усугублялась депрессией. К тому времени «единственный сын» уже начал постепенно отдаляться от названого отца. Горько читать строки Бюлова о Листе: «Это всё еще прежний волшебник, достойный удивления; и телом, и душой он бодрее, чем я ожидал, но я больше не в состоянии понимать его протеевские жесты: он прямо-таки устрашает, и я совершенно охладел к нему»[711].
Можно, конечно, сделать скидку на то, что вид здорового человека порой раздражает больного и в данном случае Бюлов лишь невольно проявил несвойственную ему неблагодарность. И всё же приходится констатировать, что круг преданных друзей Листа неумолимо сужался. Насколько выигрышным контрастом выступает человеческая натура самого Листа, когда, уже покинув Ганновер, он писал Бюлову: «Редко испытывал я чувство, подобное тому, что охватило меня при чтении твоего письма. <…> Мои беды не меньше твоих, но только заключены они в более привлекательное обрамление и не могут сломить меня благодаря моему плебейскому здоровью. Мое величайшее желание — сблизить наши общие „большие беды“. Объединенные, они, без сомнения, превратились бы в сокровище, более достойное зависти, чем миллионы Ротшильда»[712].
Дни с 6 по 9 октября Лист провел в Нюрнберге у Лины Раман. Во время этой встречи он сыграл ей «Святого Франциска, идущего по волнам». Лист всегда считал, что образ его небесного покровителя лучше всего отражает его собственную сущность. Таким способом Лист пытался помочь своему биографу лучше понять его душу.
Из Нюрнберга Лист напрямую отправился в Венгрию. 15 октября он прибыл в Будапешт, но перед началом занятий в Музыкальной академии позволил себе в течение десяти дней — с 21 по 31 октября — отдохнуть в Сексарде у Аугуса. Оттуда он писал Каролине Витгенштейн, с которой не мог долго находиться в ссоре: «Мои классы требуют не менее 15 часов в неделю. Хуже обстоит дело с писанием писем, этим моим земным чистилищем, но всё же я постараюсь сохранить некоторое количество утреннего времени для сочинения музыки. Ибо это единственная работа, дающая мне успокоение и поддерживающая во мне равновесие»[713].
В начале ноября Лист наконец обосновался в Будапеште и приступил к занятиям. Но вскоре «плебейское здоровье» подвело его. 18 декабря, выходя из кареты, он оступился и упал, сильно ударившись о бордюрный камень грудью и правой рукой. В течение нескольких дней ему было больно дышать. Но главное беспокойство доставляла рука: указательный палец болел, и двигать им Лист не мог (судя по всему, палец был сломан). От учеников не могло укрыться недомогание учителя. На вопрос, как он себя чувствует, Лист, всегда считавший, что плохое здоровье не является достойной темой для беседы, попытался улыбнуться и ответил: «Ничего страшного, небольшой синяк на правой руке». При этом губы его кривились от боли[714].
Рука долго не заживала. Правда, исполнительский гений Листа помог ему превозмочь болезнь: он быстро научился играть даже сложнейшие пассажи, не задействуя указательный палец правой руки. Публика, присутствовавшая на нескольких благотворительных концертах в феврале 1877 года, даже не догадывалась об увечье Листа. Перед отъездом из Будапешта, 5 марта, в зале «Вигадо» он дирижировал «Легендой о святой Елизавете». И вновь зрители ничего не заметили, хотя временами у Листа от боли в руке темнело в глазах.
А впереди ждало еще более серьезное испытание. В Вене он намеревался играть концерт, а все средства от него направить в фонд сооружения памятника Бетховену, который должен был быть установлен в австрийской столице в год пятидесятилетия со дня смерти «величайшего немца». Лист не мог отказаться от участия в столь значимой для него акции из-за такого «пустяка», как поврежденная рука. 16 марта он играл бетховенские Пятый фортепьянный концерт и Фантазию для фортепьяно, хора и оркестра (опус 80).
Из Вены он заехал в Байройт, где пробыл с 24 марта по 3 апреля и накануне отъезда душевно отпраздновал свои именины «в кругу семьи». Показанные Вагнером фрагменты «Парсифаля» привели его в восторг.
К своему сожалению, Лист нигде не мог оставаться надолго. С 15 по 30 мая он находился в Ганновере, где состоялось очередное собрание Всеобщего немецкого музыкального союза. Во время концерта 20 мая произошел трагикомичный случай. Немецкий композитор и виолончелист Ян Йозеф Ботт (Bott; 1826–1895), который должен был дирижировать исполнением листовской «Легенды о святой Елизавете», оказался мертвецки пьян и прямо во время концерта упал с подиума. Чтобы спасти положение, пришлось автору с редким присутствием духа срочно становиться за дирижерский пульт.
Лишь к началу июня Лист смог снова спокойно обосноваться в своем веймарском убежище — домике садовника на Мариенштрассе (Marienstraße). Именно здесь его навестил 1 июля Александр Порфирьевич Бородин (1833–1887), выдающийся русский композитор и ученый-химик, к тому времени уже автор нескольких камерных ансамблей и двух симфоний, в том числе знаменитой «Богатырской» (1875), с 1869 года работавший над эпическим полотном — оперой «Князь Игорь». О знакомстве и последующем общении с Листом на протяжении нескольких лет Бородин писал подробные, искрящиеся юмором письма своей жене Екатерине Сергеевне, впоследствии послужившие основой для статей Бородина «Мои воспоминания о Листе» и «Лист у себя дома в Веймаре», изданных под общим названием «Воспоминания о Ф. Листе». Они настолько живо, красочно, правдиво и всесторонне рисуют портрет и быт Листа, что мы не можем пройти мимо этих ценнейших свидетельств из первых уст.
Приехав в Веймар, Бородин первым делом столкнулся с проблемой: никто из местных жителей не знал, где живет Лист! «…я сунулся опять на удачу в боковые улицы… Обе улицы вели к музыкальным знаменитостям: одна к кладбищу, к покойному во всех отношениях Гуммелю, другая — в парк, к живому во всех отношениях Листу. <…> Домик № 1/17 — в три окна, крохотный, каменный, двухэтажный, угловой, белый, весь обвитый диким виноградом. С улицы хода нет. Железная решетка. Калитка ведет в садик — изящный, чистенький, точно языком вылизанный. В саду гуляет какой-то господин в соломенной шляпе. — Здесь живет Herr Doctor Лист? — Здесь, но только теперь он обедает; после обеда ляжет отдохнуть и ранее 4 ½ ч. его видеть нельзя. <…> Поболтавшись по городу до 4 ½ часов, спешу на Marienstraße, к заветной решетке… Не успел я отдать карточки, как вдруг перед носом, точно из земли, выросла в прихожей длинная фигура в длинном черном сюртуке, с длинным носом, длинными седыми волосами. „Vous avez fait ипе belle Symphonie“, — гаркнула фигура зычным голосом, а длинная рука протянулась ко мне. „Soyez le bienvenu!“[715] — и тут же, в коротких, но сильных выражениях он успел высказать свое resume относительно каждой из частей симфонии и показать мне, насколько эта вещь ему нравится и хорошо знакома в подробности. Мускулистая рука крепко сжала мою руку, втащила в комнату и усадила меня на диван. Мне оставалось только откланиваться и благодарить. Величавая фигура старика, с энергическим, выразительным лицом, оживленная, двигалась передо мною и говорила без умолку, закидывая меня вопросами относительно меня лично и музыкальных дел в России, которые ему, очевидно, недурно известны. Разговор шел то на французском, то на немецком языке, перескакивая ежеминутно с одного на другой. <…> Из нашего разговора я заметил, что инструментальною русскою музыкою он интересовался гораздо более, нежели вокальною, что, впрочем, вполне понятно, так как русского языка он не знает. Но и вообще, — как мне показалось, — симфоническая, камерная и фортепьянная музыка, по-видимому, интересуют его более, нежели оперная»[716].
Особенности общения Листа с учениками и метод его преподавания также нашли отражение в статьях Бородина: «Далее он рекомендовал мне своих учеников: „Это всё знаменитые пианисты, если не в настоящем, то в будущем, непременно“. Толпа беззастенчиво расхохоталась. <…> „А мы совсем неожиданно перенесли урок на понедельник, — сказал Лист, — а всему виною die kleine M-lle Vérà[717] (выдающаяся русская пианистка Вера Викторовна Тиманова (1855–1942). — М. З.), которая со мною делает всё, что хочет: захотела, чтобы урок был сегодня — нечего делать, должен был перенести на сегодня“. Все засмеялись опять. <…> Во всех своих замечаниях он был, при всей фамильярности, в высшей степени деликатен, мягок и щадил самолюбие учеников. <…> Замечу кстати, что между ним и его учениками отношения какие-то патриархальные; ужасно простые, фамильярные и сердечные, нисколько не напоминающие обыкновенные, формальные отношения учеников к профессору; это скорей отношения детей к отцу или внучат к дедушке. <…> При всём добродушии в замечаниях его проскальзывает иногда некоторое ехидство. Особенно он, по-видимому, любит пройтись насчет Л[ейпцига]. (Лейпцигская консерватория считалась антиподом нововеймарской школы. — М. З.) <…> Собственно на технику, постановку пальцев и пр. он обращает ужасно мало внимания, а главным образом упирает на передачу выражения, экспрессию. <…> Собственно своей, личной манеры Лист никому не навязывает. <…> Лист вообще неохотно принимает новых учеников, и к нему попасть не легко; для этого необходимо, чтобы он или сам сильно заинтересовался личностью, или за нее ходатайствовали люди, которых Лист особенно уважает. Но раз допустивши кого-либо, он редко удерживается в тесных рамках исключительно преподавательских отношений и скоро начинает принимать близко к сердцу частную жизнь своих учеников; входит иногда в самые интимные интересы и нужды их как материальные, так и нравственные; радуется, волнуется, скорбит, а подчас не на шутку будирует по поводу их домашних и даже сердечных дел. И во всё это он вносит столько теплоты, нежности, мягкости, человечности, простоты и добродушия!»[718]