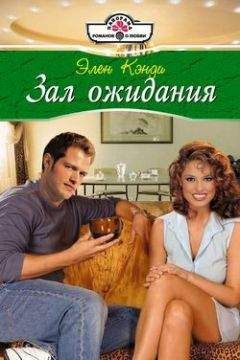«И ты начал свою борьбу, Абу Якуб?»
«Нет, не сразу. Это произошло позднее, уже в 1967 году, когда Израиль занял остальные палестинские земли и захватил второй берег Иордана. В то время я работал шофером в Аммане. Помню, я доехал до моста Алленби, там меня остановили. Тогда я бросился в реку, чтобы вплавь попасть на другой берег. Под пулями я выбрался на землю и вскоре уже был в нашем лагере. Он был разрушен бомбежкой. В нашей комнате я никого не обнаружил. Весь день проискал я жену и детей, пока случайно не нашел их в католической школе «Святая Земля». Жена рассказала мне, что израильская артиллерия несколько часов обстреливала лагерь. Очень многих убило, а она с детьми успела убежать в эту школу, ведь ее бомбить не будут, она под защитой церкви Христа, которая стоит тут же рядом со зданием школы. Но пока она мне все это рассказывала, в церковь врезалась напалмовая бомба. Сразу же загорелась и школа. Я все равно не хотел уходить, потому что уже знал, чем все это кончится, я не хотел повторять ошибки своего отца. Но мне пришлось все же уйти, жена ужасно кричала, и она была, конечно, права: тогда было не время говорить о гордости — нас могли в любую секунду убить. В той школе пряталось множество детей, не меньше пятидесяти — без отцов, без матерей. Священник, который там был, советовал построить их всех в колонну, только так, говорил он, можно их спасти. Я их выстроил, и мы пошли к мосту Алленби. Мы шли два дня без еды, воды. Мы шли, пока в полдень на нас не спикировали два самолета, пока они не начали нас расстреливать. Нет, скажите мне, почему им надо было расстреливать пятьдесят детей? Ведь они видели, что это были дети!
Мы перешли по мосту Алленби на другой берег — они свободно пропускали всех, кто покидал Палестину, но обратно в Палестину они уже никого не впускали. Мы пришли наконец в Амман, и только там я обнаружил, что с собой мы не взяли ничего — ни одежды, ни одеяла, ни пары ботинок. И я снова почувствовал себя беспредельно униженным, потому что во второй раз мне приходилось бежать со своей родины, из своего дома, оставив в нем все. «Хватит, — сказал я тогда своей жене, — так больше нельзя. Я разыщу свой грузовик, вернусь домой и привезу сюда хотя бы вещи».
У того же моста меня остановила полиция. От меня требовали пропуск, которого у меня, конечно же, не было. Я им сразу же об этом сказал: пропуска у меня нет, но я могу дать вам свое честное слово, я ведь только съезжу за вещами и тут же вернусь. Израильтянин сплюнул на землю: честное слово араба, ха! И ударил меня по голове прикладом автомата. Тут как раз подошел другой израильтянин, увидел кровь на моем лице и принялся ругать того, кто меня ударил. Он даже извинился передо мной и сказал: «Езжай, езжай!» Я ехал домой, и меня раздирала ненависть к тому, кто ударил, и признательность к тому, кто за меня вступился. Наконец я приехал в лагерь, вошел в свою комнату... она была пуста. Из нее вынесли все! Я вернулся к мосту и уже не чувствовал никакой симпатии к тому израильтянину, что вступился за меня. Я чувствовал только ненависть и еще боль в разбитой голове. Я вел грузовик и думал: так дальше жить нельзя, сионисты не изменятся, они так и будут двигать вперед, если мы их не остановим. Я вспомнил, что мне говорили о фидаинах, вспомнил, что их лагеря находились вроде в Сирии, и когда подъехал к развилке, то выбрал дорогу не на Амман, а свернул налево, на ту дорогу, что ведет к Дамаску. Вечером я уже был в городе. Я спрашивал у встречных, где здесь принимают в фидаины. Мне долго не отвечали. Наконец кто-то сказал: «Езжай по этой дороге, когда выедешь из города, тебя остановят». Меня действительно остановил патруль. «Что тебе здесь надо?» — спросили они меня. «Я хочу стать фидаином»,— ответил я. «Зачем?» — спросили они. «Чтобы вернуться домой», — ответил я. Так я стал фидаином...»
Ориана Фаллачи
Перевел с итальянского И. Горелов
Отправлялись мы на Яву с четкой целью: отснять для французского телевидения сцену фольклорных празднеств в традиционной яванской деревне. Однако по прибытии на Западную Яву планы наши изменились. Увиденное высвечивало тему под совершенно новым и никак не ожидавшимся углом зрения. В самом деле, разве могли мы рассчитывать на то, что нам удастся увидеть шамана «в работе». Отснятые нами сцены были показаны затем на маленьком экране, прокомментированы специалистами. Думаем, что удивление и интерес, пробудившийся в публике к предмету нашего рассказа, от этого только возрос. Возникла необходимость не только показать, но и рассказать обо всем подробней, не ограничивая себя жесткими рамками телевидения.
Страна в стране
Если, попав на Западную Яву, вы назовете местного жителя яванцем, он не преминет вас поправить: — Я сунданец. В Европе мало кто слышал об этой народности, хотя в Сунде живет почти тридцать миллионов человек. Сунданцы говорят на своем языке, у них сложилась своя оригинальная культура, своя история.
Часть лингвистов считает, что слово «Сунда» происходит от санскритского «зунд», что значит «блестящий», «яркий», «сверкающий». Именно ему, считают они, мы обязаны наименованием всего гигантского архипелага — Зондские острова. Как бы там ни было, сравнительно недавние раскопки в окрестностях Бандунга свидетельствуют, что Сунда существовала уже на заре нашей эры. На картах европейских навигаторов средневековья были помечены зыбкие границы этой страны, по слухам богатой и могущественной. Но знали о ней очень мало. Сунданцы, разбросанные по гористому краю, мало общались не только с внешним миром, но даже с соседями.
Дорога из Бандунга на юг то и дело прижимается к крутым бокам вулканов. Рисовые поля на террасах расходятся словно складки мокрого веера. Зеленые стебли отражаются в похожих на осколки зеркала озерах. Поля соединяются друг с другом бамбуковым водопроводом. Крестьяне следят за ним с большим тщанием — чинить его трудно. Мужчины, неся на плече кто мотыгу, кто коромысло с двумя бамбуковыми корзинами, ступают босыми ногами по каменистой дороге. Широкоскулые коричневые лица делают их несколько похожими на перуанских индейцев. Горцы высоколобы, стройны, с почти прямым разрезом глаз, держатся независимо. Всячески подчеркивают, что они сунданцы.
Эта исторически сложившаяся обособленность сохранилась и поныне. К тому же голландцы очень умело использовали ее в колониальную эпоху. Из сунданцев формировали отборные воинские соединения и отправляли их на постой в другие части страны. Да и сейчас дивизия «Силиванги», набранная из выходцев с Западной Явы, на особом счету в индонезийской армии. Именно она сыграла трагическую роль во время событий 1965 года.
Слева — «хорошие», справа — «злые»
Первым откровением для нас была встреча с «далангом». В буквальном переводе это «кукловод». В действительности фигура эта куда более многогранна. Конечно, прежде всего это мастер; даланг начинает постигать свое ремесло с младых ногтей. В древности юных кандидатов, отобранных из самых смышленых ребят, отсылали учиться к какому-нибудь отшельнику, жившему в пещере или где-нибудь в труднодоступном месте в горах. Обучение длилось почти десяток лет и включало в себя, помимо умения двигать деревянные фигурки, великое множество разных премудростей.
Даланг должен обладать феноменальной памятью. Ведь ему приходится рассказывать наизусть многочисленные сюжеты, созданные по мотивам древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Причем спектакль, который мы видели, начался в три часа дня и закончился только утром следующего дня. Все это время даланг не замолкал. Каждое представление — урок тысячелетней мудрости, воспринимаемый зрителями со всей серьезностью и полной гаммой переживаний.
Популярного даланга часто приглашают выступать в отдаленные деревни; гонорар его очень высок, деньги собирают с каждого дома.
Вот он сидит, скрестив ноги, возле длинного свежесрубленного бананового ствола. В дерево воткнуты стержни, на которых укреплены куклы. В индонезийском театре кукол 172 персонажа. По левую руку кукловода стоят персонажи, олицетворяющие доброе начало, с опущенным взором и скромного вида, а справа, с выпученными глазами и вызывающими физиономиями, — отрицательные. Чаще всего даланг, мастер на все руки, сам изготавливает своих кукол. Прежде чем начать вырезать из древесины акации фигуры и раскрашивать их, он, как предписывает традиция, «очищается»: не ест и не спит в течение недели. Его работа — акт вдохновения.
Во время представления на даланге традиционный сунданский тюрбан «тотопонг». Когда он склоняется, исчезая за деревом, тюрбан становится фоном. Сюжеты «Махабхараты» даланг дополняет рассказами из истории войн и междоусобиц древних сунданских королевств. Вот начинается придворный бал: даланг ловко переставляет фигуры, заставляя их раскланиваться друг с другом. За его спиной три певицы тягучими голосами аккомпанируют рассказу.