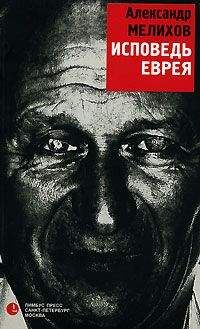и приглашала меня к роялю:
— А сейчас наш Робертино Лоретти исполнит серенаду Шуберта.
Я становился вполоборота к классу и разворачивал портрет так, чтобы видеть его глаза, хоть он и смотрел мимо меня, и — я сам цепенел от невероятной красоты не только музыки, но и своего голоса. И когда я завершал, угасая: «Приди… скорей…» — я замирал и опускал глаза, чтобы не разрыдаться. А Пеша строго клала мне на голову свою холодную ладонь, как бы намекая на неуместность столь примитивных реакций перед лицом великой музыки.
Вот за Пешей-то я и увязался после урока. Повторять ее движения я мог не смущаясь: в коридорной толкотне никому до меня не было дела. И я почти сразу ощутил никогда еще не испытанное одиночество. Мне ужасно хотелось с кем-то перекинуться шуткой, с кем-то остановиться и поболтать, но я не представлял, как мне это сделать. Навстречу нам промчался целеустремленный физик, и я почувствовал, до чего это глупо — румяный мужчина, но и как же мне хочется погладить его по этой румяной щеке…
В растерянности я забежал вперед, чтобы заглянуть Пеше в глаза, и она, как обычно, строго положила мне ладонь на голову, — и я прочел в ее глазах горечь: ведь он мог бы быть моим сынишкой…
Я это рассказал пацанам совсем не для того, чтобы поржать, просто не смог не поделиться своим потрясением. Но их это развеселило. И дар проникновения в чужие души навсегда меня оставил. Иногда только что-то неясное начинало шевелиться, если долго вглядываться.
Шуберт тоже отвернулся от меня навсегда. Песнь моя улетела от меня с таким петухом, что весь класс попадал со скамеек. А Пеша грустно вздохнула:
— Ничего не поделаешь, ранняя мутация.
С тех пор в парткабинете я даже не приближался к полкам с табличкой «Военная проза» — я уже понимал, что это та же грызня за кровавую требуху. И не ловите меня на слове, что ребенок-де не знает таких слов: ребенок понимает в миллион раз больше, чем может произнести. Но не читать же мне было про недоперевыполнение плана или про каких-то невыносимо скучных женихов-невест, отцов-детей… Мне по-прежнему и даже еще сильнее хотелось подвигов, и вот тогда-то я открыл Алтайского.
Моя драка с шелудивыми псами и мое предательство Пеши заставили меня стремительно повзрослеть. Еще пару дней назад слово «энергосистема» заставило бы меня поспешно захлопнуть книгу, но ведь она стояла на полке «Героические будни»! И в ней за незнакомыми скучными словами — горком, партком, новатор, консерватор, трансформатор, конденсатор, локатор (у нас все сложные устройства называли сиксиляторами) — я учуял одну из тех вечных сказок, которыми зачитывался с незапамятных, точнее, беспамятных пор.
* * *
В некотором царстве, в тридесятом государстве жил-был прекрасный город-лес, в котором дома вырастали из земли, будто деревья. Питались дома от бесконечного переплетения волшебных корней. От них в домах сиял свет, на улицах горели фонари, на заводах крутились станки, по улицам раскатывали повозки. Городом правил мудрый добрый царь, и все в нем жили-поживали и добра наживали.
Мешали людям жить только подземные полчища кротов. Они находили в корнях нежные места и их перегрызали — корни были для кротов любимым лакомством. И чтобы найти перегрызенное место, иногда приходилось перерывать половину города. К счастью, это случалось редко, корни были очень крепкие.
Но однажды на город напал свирепый дракон. Он летал над городом и швырял вниз раскаленные глыбы и огромные чугунные стрелы.
Дракона удалось прогнать, но многие дома и даже подземные корни оказались разрушенными и перерубленными. Строители, работая день и ночь, дома отремонтировали, земледельцы вырастили новые, но с подземными корнями дело пошло не так складно да ладно. Многие корни получили коварные подземные раны. Такой раненый корень мог питать себе да питать фонари и повозки, а кроты его тем временем грызть да грызть: сочащиеся раны корней — это для них было самое вкусное лакомство. А чтобы найти, сшить и забинтовать перегрызенное место, нужно было раскапывать ужасно длинные и глубокие траншеи, как на фронте. Для этого приходилось держать целую армию землекопов и бинтователей, и все равно то там, то сям гаснул свет, останавливались фабрики, в больницах умирали люди.
Поэтому отряды копальщиков и бинтовальщиков очень всеми уважались. И в одном таком отряде служили и дружили два смышленых паренька и одна девчонка — они копали, она бинтовала, а они оба за ней ухаживали. Потому что она была на свете всех милее, всех румяней и белее. Оба паренька очень ловко работали кайлом и лопатой, оба хорошо соображали, где чего можно нарыть. Их уже собирались сделать бригадирами, но тут один из них, на свою беду, решил придумать волшебный глаз, который видит сквозь землю. Чтоб можно было сразу находить раненое место без осточертевшего рытья.
Он засел в пещеру, обносился, отощал — все чего-то чертил, пилил, ковал, варил, шептал… Все решили, что он спятил с ума, и только верная подружка навещала его и подкармливала, роняя слезы в кастрюльку. Но он и на нее не обращал внимания, он ни о чем не мог думать, кроме своего волшебного глаза.
А тем временем второй парень вышел в большие генералы, у него появился свой дом, слуги, лошади, и однажды он предложил их общей подружке выйти за него замуж. Зачем-де тебе этот нищий и сумасшедший пещерный житель? Годы идут, он так и помрет в своей пещере, а ты и останешься ни с чем. А со мной будешь кататься как сыр в масле. Она подумала-подумала, поплакала-поплакала да и вышла за него замуж. И стали они жить-поживать и добра наживать.
И тут к ним в дом явился ободранный и обросший изобретатель: его волшебный глаз наконец-то видит сквозь землю! Давайте пробовать. Я покажу, где раненое место, а вы раскопайте и проверим. Но бывший друг за это время сделался самым большим начальником землекопов. Он подумал: если этот псих и правда умеет находить разрывы без траншей, так на что тогда я буду нужен со своими землекопами? И он всем объявил, что волшебный глаз его бывшего друга ничего под землей не видит, а он просто противопоставляет себя коллективу.
Изобретатель начал везде ходить и жаловаться: вы, говорит, душите новаторство и поступаете не по-партийному. Но он был ободранный, заросший и похожий на сумасшедшего, а его бывший друг был всеми уважаемый, и с ним лучше было не ссориться. Изобретатель постепенно до того всем надоел, что его посадили в тюрьму за подрывание