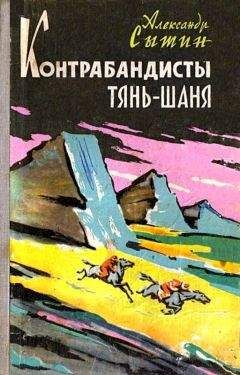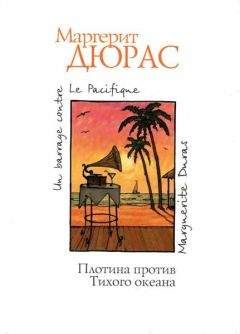Но в этот час на дороге было пустынно, над далекой рощицей всходила луна, и ее свет постепенно превращал сельский пейзаж в серебристо-черную гравюру.
Он продолжал свой путь, бесшумно погружая ноги в дорожную пыль, и порой до него доносился вскрик растревоженной птицы, а в воздухе тянуло дымком сжигаемых осенних листьев.
Какая здесь красота, подумал Тобиас, какая красота, но как же тут одиноко. Ну и что с того, черт побери? Он ведь всегда был одинок.
Издалека послышался рев мчащейся на большой скорости машины, и он про себя недобрым словом помянул таких вот отчаянных водителей.
Машина подлетела к перекрестку, пронзительно взвизгнули тормоза, она круто свернула на дорогу, по которой он двигался, и свет фар ударил ему в глаза.
Но в тот же миг луч света, взметнувшись, вонзился в небо, вычертил на нем дугу, и, когда с пронзительным скрипом трущейся об асфальт резины машину занесло, Тобиас увидел неяркое сияние задних фонарей.
Медленно, как бы с натугой машина заваливалась на бок, опрокидываясь в придорожную канаву.
Тобиас вдруг осознал, что он бежит, бежит сломя голову на мгновенно окрепших ногах.
Раздался негромкий всплеск воды, машина уперлась в противоположную стенку канавы и теперь лежала неподвижно, только все еще вертелись колеса.
Тобиас спрыгнул в канаву и обеими руками стал яростно дергать за ручку дверцы. Однако дверца заупрямилась: она стонала, скрипела, но не желала уступать. Он рванул что было мочи, и дверца приоткрылась этак на дюйм. И сразу он почувствовал едкий запах горящей изоляции и понял, что времени осталось в обрез.
Помогая ему, кто-то нажимал на дверцу изнутри, и Тобиас медленно распрямился, не переставая изо всех сил тянуть на себя ручку, и наконец дверца с большой неохотой поддалась.
Из машины послышались тихие жалобные всхлипывания, а запах горящей изоляции усилился, и Тобиас заметил, что под капотом мечутся огненные язычки.
Тобиас нырнул внутрь машины, схватил чью-то руку, поднатужился, рванул к себе. И вытащил из машины мужчину.
— Там она, — задыхаясь, проговорил мужчина. — Там еще...
Но Тобиас, не дослушав, уже шарил наугад в темном чреве машины, к запаху горящей изоляции прибавился клубами поваливший дым, а под капотом ослепительным красным пятном разливалось пламя.
Он нащупал что-то живое, мягкое и сопротивляющееся, изловчился и вытащил из машины девушку, ослабевшую, перепуганную насмерть.
— Скорей отсюда! — заорал Тобиас и с такой силой толкнул мужчину, что тот упал и уже ползком выбрался на дорогу.
Тобиас, схватив на руки девушку, прыгнул вслед за ним, а позади него машина взлетела на воздух в столбе огня,
Они ускорили шаг, подгоняемые жаром горящей машины. Немного погодя мужчина высвободил девушку из рук Тобиаса и поставил ее на ноги. Судя по всему, она была цела и невредима, если не считать ранки на лбу у корней волос, из которой темной струйкой бежала по лицу кровь.
К ним уже спешили люди. Где-то вдали хлопали двери домов, слышались взволнованные крики, а они трое, несколько оглушенные, остановились в нерешительности посреди дороги.
И только теперь Тобиас увидел, что мужчина — это Рэнди Фробишер, кумир футбольных болельщиков Милвилла, а девушка — Бэтти Хэлворсен, музицирующая дочка баптистского священника.
«Мне здесь больше делать нечего, — подумал Тобиас, — пора уносить ноги». Ибо он допустил непозволительную ошибку. Нарушил запрет.
Он резко повернулся, втянул голову в плечи и быстро, только что не бегом, зашагал назад к перекрестку. Ему показалось, будто Рэнди что-то крикнул ему вдогонку, но он даже не обернулся.
За перекрестком он сошел с дороги и стал взбираться по тропинке к своей развалюхе, одиноко торчащей на вершине холма над болотом.
И он забылся настолько, что перестал спотыкаться.
Впрочем, сейчас это не имело значения: вокруг не было ни души. Его буквально трясло от ужаса. Ведь этим поступком он мог все испортить, мог свести на нет всю свою работу.
Что-то белело в изъеденном ржавчиной помятом почтовом ящике, висевшем рядом с дверью, и Тобиас очень удивился, ибо крайне редко получал что-либо по почте.
Он вынул из ящика письмо и вошел в дом. Ощупью отыскал лампу, зажег ее и опустился на шаткий стул, стоявший у стола посреди комнаты.
Его рабочий день закончился, хотя формально это было не совсем точно, потому что с большей ли, меньшей ли нагрузкой, а работал он всегда.
Он встал, снял с себя обтрепанный пиджак, повесил его на спинку стула и расстегнул рубашку, обнажив безволосую грудь. Он нащупал на груди панель, нажал на нее, и под его пальцами она скользнула в сторону. За панелью скрывалась ниша. Подойдя к рукомойнику, он извлек из этой ниши контейнер и выплеснул в раковину выпитое днем пиво. Потом он вернул контейнер на место, задвинул панель и застегнул рубашку.
Он позволил себе не дышать.
И с облегчением стал самим собой.
Тобиас неподвижно сидел на стуле, выключив свой мозг, стирая из памяти минувший день. Спустя некоторое время он начал его осторожно оживлять и создал другой мозг — мозг, настроенный на ту его личную жизнь, в которой он не был ни опустившимся пропойцей, ни совестью городка, ни дурным примером.
Но в этот вечер ему не удалось полностью забыть пережитое за день, и к горлу снова подкатил комок — знакомый мучительный комок обиды за то, что его используют как средство защиты человеческих существ, населяющих этот городок, от свойственных людям пороков.
Дело в том, что в любом маленьком городке или деревне мог ужиться только один подонок: по какому-то необъяснимому закону человеческого общества двоим уже было тесно. Тут безобразничал Старый Билл, там Старый Чарли или Старый Тоуб. Истинное наказание для жителей, которые с отвращением терпели эти отребья как неизбежное зло. И по тому же закону, по которому на каждое небольшое поселение приходилось не более одного такого отщепенца, этот один-единственный был всегда.
Но если взять робота, робота гуманоида Первого класса, которого без тщательного осмотра не отличишь от человека, если взять такого робота и поручить ему разыгрывать из себя городского пьяницу или городского придурка, этот закон социологии будет обойден. И человекоподобный робот в роли опустившегося пьянчужки приносил огромную пользу. Этот пьяница робот избавлял городок, в котором жил, от пьяницы человека, снимал лишнее позорное пятно с человеческого рода, а вытесненный таким роботом потенциальный алкоголик поневоле становился вполне приемлемым членом общества. Быть может, этот человек и не являл собой образца порядочности, но по крайней мере он держался в рамках приличия.
Для человека быть беспробудным пьяницей ужасно, а для робота это все равно что раз плюнуть. Потому что у роботов нет души. Роботы были не в счет.
И хуже всего, подумал Тобиас, что эту роль ты должен играть постоянно, если не считать кратких передышек, как вот сейчас, когда ты твердо уверен, что тебя никто не видит.
Но сегодня вечером он вышел из образа. Его вынудили обстоятельства. На карту были поставлены две человеческие жизни, и иначе поступить он не мог.
«Впрочем, — сказал он себе, — не исключено, что еще все обойдется. Те двое были в таком состоянии, что, вероятно, даже не заметили, кто их спас».
Но весь ужас в том, вдруг понял он, что это его не устраивало: он страстно желал, чтобы его узнали. Ибо в структуре его личности появилось нечто человеческое, и это нечто неудержимо стремилось проявить себя вовне, жаждало признания.
Ему было бы куда легче, думал он, если б он не чувствовал, что способен на большее, если б роль пропойцы была для него пределом.
А ведь когда-то так и было, вспомнил он. Именно так обстояли дела в то время, когда он завербовался на эту работу и подписал контракт. Но сегодня это уже пройденный этап. Он созрел для выполнения более сложных заданий.
Потому что он повзрослел, как, мало-помалу меняясь, загадочным образом постепенно взрослеют роботы.
Из рук вон плохо, что он связан контрактом, срок которого истечет только через десять лет. Но тут ничего не исправишь. Положение у него было безвыходное. Обратиться за помощью не к кому. Самовольно оставить свой пост невозможно.
Ведь для того чтобы он не работал впустую, существовало правило, по которому только один-единственный человек, обязанный хранить это в строжайшей тайне, знал о том, что он робот. Все остальные должны были принимать его за человека. В противном случае его труд потерял бы всякий смысл. Как бездельник и пьяница человек, он избавлял жителей городка от вульгарного порока; как никудышный, паршивый пьяница робот, он не принес бы никакой пользы.
Поэтому все оставались в неведении, даже муниципалитет, который, надо полагать, без большой охоты платил ежегодный членский взнос Обществу прогресса и совершенствования человеческого рода, не зная, на что идут эти деньги, но тем не менее не решаясь уклониться от платежа.