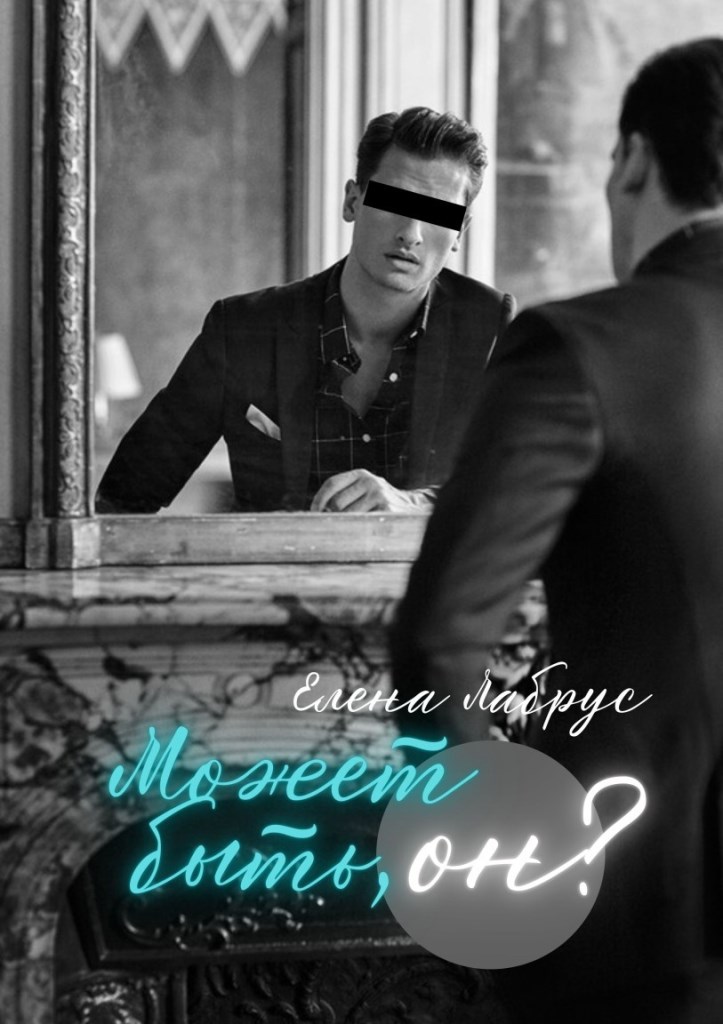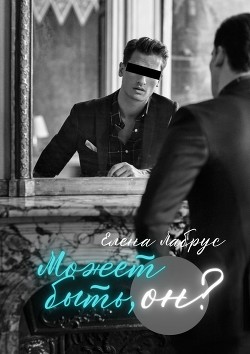В тот единственный раз, когда меня вместе со всеми вывели гулять, некоторые женщины вышли на прогулку ярко накрашенные, приодетые. И шли от женского корпуса к прогулочному двору как модели по подиуму, стреляя глазами по окнам мужских. Оттуда в их сторону летели свист, приветствия и восторженные возгласы.
Тогда я тех женщин не понимала, а сейчас даже очень: и в тюрьме хотелось нравиться. И здесь хотелось чувств, любви, отношений.
Но сейчас меня вели одну и не на прогулку.
Не знаю, что я ожидала увидеть: решётку, стекло, телефонные трубки с двух сторон от него? По факту комната для свиданий, куда меня привели, оказалась обычной комнатой со столами и стульями, как в небольшом офисе. За каждым сидели мужчины и женщины, мужчины и мужчины, женщины и женщины. Некоторые обнимали детей, кто-то плакал, кто-то приглушённо беседовал друг с другом, кто-то молчал.
Кого мне искать глазами среди столов, я не знала. Но узнала её, едва увидела.
— Оксана? — удивилась я, занимая стул напротив.
Она сидела ссутулившись, словно стараясь занять как можно места, как обычно она сидела в школе, дома, за кухонным столом. Сидела, ходила, жила.
— Привет! С днём рождения! — не глядя на меня, с соседнего стула достала пирожное в высоком пластиком контейнере. — Это всё, что разрешили.
— Спасибо! — выдохнула я.
— Извини, что поздно.
— Ничего, — улыбнулась я, глядя на корзиночку с завитком крема и маленькой свечкой.
— Можно? — положив на стол три спички, повернулась Оксанка к охраннику, равнодушному, как каменный истукан. Я думала, истукан не ответит, но он едва заметно кивнул.
— Спички разрешают только россыпью и по счёту, а коробок и вовсе нельзя, — пояснила она. — Но я оторвала сбоку, — легла рядом наждачная полоска, о которую можно поджечь спичку.
Охранник сделала вид, что не заметил, когда Оксанка чиркнула.
— Чёрт! — выругалась она: первая спичка не загорелась.
— Чёрт! — выругалась я, когда вторая сломалась.
— Дамы, — предупреждающе покачал головой охранник и щёлкнул зажигалкой.
— Ура! — закричали мы шёпотом, когда на крошечной свечке замерцал крошечный огонёк, и так же хором сказали: — Спасибо!
Охранник дёрнул головой, словно ему давил воротник и демонстративно отвернулся.
— Ну вот у меня настоящий праздник, — передвинула я пирожное на середину стола.
— Загадывай желание, — кивнула Оксанка.
Наверное, я не должна была с ней разговаривать, и принимать подарок, но слишком мало осталось в моей жизни людей, которые обо мне просто помнили, чтобы ими раскидываться.
Я закрыла глаза. Подумала. И попросила следующий день рождения встретить в своей квартире среди друзей… с Захаром.
«Желания ведь такими и должны быть, несбыточными?» — подумала я и задула свечу.
— Ты так загадочно улыбаешься, хотела бы я знать, что ты загадала, — прищурилась Оксанка. — Только не говори, — она приложила палец к губам, — а то не сбудется.
— Оно и так не сбудется, — вздохнула я. — Но хоть помечтать.
— О чём?
— Да так. Тут есть один парень. На раздаче еды работает.
— В смысле баландёром? — округлила она глаза.
— Кем? — удивилась я.
— Ну, баланду раздаёт, поэтому их так и зовут — баландёр. Они из осужденных.
— То есть? — покачала я головой.
— Ну смотри, СИЗО — это следственный изолятор, здесь сидят подследственные и подозреваемые в совершении преступлений — те, кому ещё не назначено наказание. Они содержатся в СИЗО до вступления в силу приговора, а дальше по этапу их должны отправить к месту отбытия наказания — в тюрьму, колонию и так далее.
— Угу, — кивнула я.
— А есть те, кого уже осудили, но оставили здесь, — пояснила Оксанка, — «хозники», то есть осужденные, но оставленные в изоляторе для выполнения хозяйственных работ. Они убирают снег, выносят мусор, погрузка-разгрузка на них, ремонт — занимаются всем. В том числе разносят, а иногда и готовят, еду. Это, кстати, «свиданка» для них, подследственным встречаться с родными не положено. Да их легко отличить, — скосила Оксанка глаза в бок: за соседним столом сидел парень в тюремной робе. — По одежде. Подследственные ходят в своей, вольной, а они — в такой.
— Откуда ты всё это знаешь? — удивилась я.
Она вздохнула.
— У меня здесь брат.
— Брат? — тут же вспомнила я как «подруга» Гринёва сказала: « Пошли, девки, а то эта психованная ещё порежет кого-нибудь. Что взять с сестры уголовника ». И уточнила: — Вот прямо здесь? В этом СИЗО?
Она перешла почти на беззвучный шёпот, но я поняла по губам и так же беззвучно переспросила:
— У Оболенского?
— А ты думаешь, как мать с ним познакомилась?
— Как? — выдохнула я.
— Пришла просить, чтобы сына не отправили по этапу, оставили здесь «хозником».
— И он ей обещал?
— Он сделал.
Я округлила глаза: «Господи, так вот почему тёть Марина с ним! Почему терпит, сносит побои, не выгоняет. Почему возле консультации она сказала мне: « Что ты знаешь о материнской любви, девочка? »
— Она с ним из-за твоего брата?
— Ну, поначалу да, такими, наверное, были условия их сделки. Но он ухаживал, она ему нравилась. А сейчас, — Оксанка покачала головой, — уже не знаю. Я всё думала о том нашем с тобой разговоре. О том, что ты сказала про него. Но этого ведь ты не могла знать, — смотрела она на меня в упор.
— Нет, этого я не знала. Да мы ни о чём толком и не поговорили.
— Поговорили, — она снова взяла меня за руку. — Он… Он гораздо хуже, чем ты думаешь. Намного хуже.
Оксанка сжала мою руку. В ладонь ткнулось что-то пластмассовое, тонкое. Острый конец оцарапал запястье. Я дёрнулась, вытаращила глаза. Но Оксанка сделала вид, что ничего не происходит, проталкивая в мой рукав спицу.
— Я его люблю, —