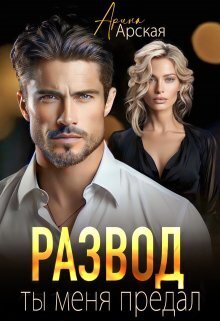дней. И там будет радость.
— Мы тоже виноваты… Мы не должны были уезжать без него… — жалобно всхлипывает. — И ты ведь не хотела ехать. Это все я… Мне же были нужны дурацкие фотографии для тупых понтов…
— И ведь хорошие фотографии получились, — с губ срывается истеричный смешок.
Обе замираем, когда слышим трель домофона, а затем кто-то стучит в калитку.
— Ада, — раздается тихий голос Ии.
— Иди в дом, — шепчу я и мягко толкаю напряженную и бледную Лилю к входной двери.
— Ада, Матвей не отвечает…
— Эта сука… — шипит Лиля.
— Милая, — обхватываю ее лицо и заглядываю в темные от ненависти глаза, — будь выше этого. Оно того не стоит.
— Ада, я хочу поговорить.
— Иди.
Дожидаюсь, когда Лиля, стиснув зубы, скрывается за дверью, и с тяжелым сердцем спускаюсь по ступенькам.
Я раньше восхищалась наглости и упрямству Ии. Я рядом с ней всегда была слишком отстраненной, осторожной и никогда не перла напролом.
Сейчас у меня нет в душе злости или ненависти. Я не хочу кидаться на Ию с кулаками, с криками и обвинениями, что она тварь.
Это ничего не изменит.
И свое я уже откричала. На полу рядом с Матвеем. Это была последняя дань нашему браку, в котором я могла показать себя слабой, никчемной и сломанной.
— Ада…
— Я иду, — шагаю к глухой калитке из кованых прутьев и черного полотна железа.
Скоро придется обрезать и выкапывать георгины и готовить наш уютный и небольшой сад к зиме. Этим должен был заняться Матвей, который любит копаться с землей и цветами, но теперь, видимо, мне придется натянуть садовые перчатки.
— Ада, — говорит Ия, когда я открываю калитку.
Светлые джинсы, короткая футболка, кроссовки и ни грамма косметики, но мне почему-то в этой небрежной простоте кажется серьезная продуманность отчаянного образа.
— Матвей уехал, — тихо отвечаю и шагаю за калитку.
— Куда? — Ия отступает.
— Не знаю. Собрал сумку и уехал. И ты уезжай, Ия.
— Ада, я понимаю…
— Да ну? — слабо улыбаюсь.
— Я… Ада…
Скрип калитки, и к нам вылетает молчаливая и решительная Лиля. Отталкивает меня, натягивает ворот свитера на нос и вскидывает в сторону Ии вторую руку. Выпускает в ее лицо струю из небольшого черного балончика:
— Получай, гадина.
Я задыхаюсь от едких паров, кашляю, и глаза горят огнем. Ия истошно кричит, закрывает лицо руками и падает на колени, а после и вовсе валится на холодную брусчатку.
— Вот и твой подарочек пригодился, стерва! Нравится?
— Лиля! — взвизгиваю я, и с кашлем отворачиваюсь, когда она дает новый залп из перцового балончика. — Остановись!
Глава 19. Ошибки взрослых и детей
— Лиля! — выхватываю из руки дочери балончик, отбрасываю его в сторону и захожусь в диком кашле.
Из глаз ручьями текут слезы, каждый вздох обжигает носоглотку болью. Лилю тоже зацепило: содрогается в кашле, привалившись под крики Ии к калитке.
Сквозь мутную пелену слез вижу, как на светлых джинсах между ног Ии расползается алое пятно крови.
— О, господи… — шепчу я.
Приближается собачий лай, который с криками Ии и рыданиями Лили сливается в какофонию ужаса.
— Муся, заткнись! — рявкает старушечий голос. — Боже! Да что тут у вас! Помогите!
— В дом! — набираю код на домофоне и заталкиваю Лилю на территорию дома. — Неси молоко!
На секунду я сама пугаюсь своего голоса. Лиля пятится, глядя круглыми и заплаканными глазами на Ию, которая воет в ладони:
— Больно… больно… — кашляет и сипит, — помогите… кто-нибудь…
— В темпе, Лиля!
К Ие рвется маленькая рыжая и пучеглазая собака, которую к себе дергает щуплая старушка с большой бородавкой над правой бровью:
— Муся!
Она привязывает поводок к одному из прутьев и кидается к Ие:
— Милая… Что случилось?! Господи! Да что ж творится с утра пораньше?!
— Хороший вопрос, — шепчу я и шарюсь по карманам дрожащими руками в поисках телефона, но не нахожу его.
Оставила дома.
Ия не лгала насчет беременности.
Меня выворачивает на брусчатку слизью от вида красного пятна на светлых джинсах.
Собака продолжает яростно тявкать.
Рвется маленькой бестией, задыхается в визгливом лае, и я опять выблевываю вязкую слизь с желчью.
Старушка верещит в кнопочный телефон, что тут напали на молодую женщину, и она истекает кровью.
— И, кажется, глаза… Что-то с глазами и лицом!
— Мам…
Как в тумане выхватываю из рук Лили холодный пакет молока, откусываю уголок, отплевываю его и отпихиваю громкую бабку в сторону.
— Людоедка! — рявкает она на меня. — Гадина! На людей бросаться! Что ты с ней сделала?
— Мам…
— Руки убери, — наклоняюсь к всхлипывающей Ие.
Лицо все красное, глаза заплыли. Вся в слюнях, соплях.
Ни ненависти, ни жалости во мне.
— Добить решила? — взвизгивает старушка. — Оставь ее! Я вызвала скорую!
Лью на лицо Ии молоко. Она отфыркивается, опять воет и тянет руки к лицу.
— Глаза, дура, открой, — отстраненно говорю я и стискиваю ее скользкий от слюней и слез подбородок, фиксируя голову.
— Открой глаза!
Белки глаз в кровавой сеточке. Зрачки расширены. Захлебывается, кашляет, а я лью и лью молоко. Не замечаю, как опустошаю пакет и отбрасываю его в сторону. На брусчатке под Ией — белая молочная лужа, а на джинсах кровь.
Слышу сирену скорой. Закрываю глаза на несколько секунд под лай собаки и рыдания Ии.
Я так устала.
Матвей, я так устала. И если в тебе есть злость, то во мне ничего нет.
Тебя забрал Пастухов.
А меня? Кто меня вырвет из этой вязкой черной гнили, в которую я погрузилась по самую макушку?
— Маньячка… — шепчет старушка и подходит к Ие. — Милая, — пытается поднять ее с брусчатки.
Звуки сирены