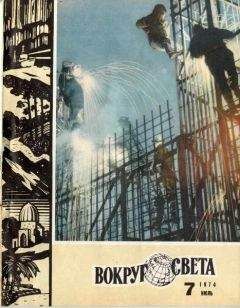Кавказ и восточная Турция очень интересуют в последние годы итальянских ученых. Когда Р. В. Гордезиани читал в университете в Перудже лекцию о грузинской культуре, среди его слушателей были и ученые — этрускологи. Они пришли сюда не только из уважения к советскому коллеге.
Варшава, Лейпциг, Берлин, Иена, Сиракузы, Флоренция, Рим — таков маршрут научных поездок специалиста по древнегреческой филологии, нашего современника. Сегодня проблемы истории древних культур — проблемы международные, которыми невозможно заниматься в одиночку. В особенности, если вас занимает такое всечеловеческое по самой своей сути явление культуры, как Гомер.
В минувшем апреле делегат XVII съезда комсомола Рисмаг Гордезиани докладывал на секции «Комсомол и подготовка молодых советских специалистов» о работе Совета молодых ученых при ЦК ЛКСМ Грузии.
Рассказал он и о гуманитарной школе, основанной несколько лет назад при университете, «...целью являлась именно гуманитарная ориентация учащихся, а не только дополнительная подготовка по обязательным для поступления в университет предметам, — говорил Гордезиани. — По рекомендации отдельных тбилисских школ были приняты 50 учеников старших классов. Три раза в неделю — чтение общих лекций по актуальным вопросам филологии, истории, философии, искусствоведения и так далее, которые служили отличным введением в проблематику гуманитарных наук. Преподавались классические языки — латынь, древнегреческий. Слушатели получали некоторую информацию о мифологии, элементах сравнительного языкознания, классическом искусстве. Вели занятия профессора, преподаватели, студенты...»
Гордезиани не упомянул о том, что и сам около трех лет читал в этой школе античную литературу, учил подростков древнегреческому языку. Ребята уже довольно бойко разбирали «Илиаду». Они скандировали: «Мэнин аейде теа Пэлэиадо Ахилеос... — Гнев богиня воспой Ахиллеса, Пелеева сына...»
Разумеется, не все они станут филологами-классиками. Школа для того и создана, чтобы заранее, задолго до вступительных экзаменов в университет, помочь им осмотреться в кругу наук о человеческой культуре, сделать правильный выбор. И наверное, это очень хорошо, что выбирать свое будущее в науке им помогает Гомер.
Что такое летняя полночь на Севере? Море белого, жемчужного света. Кажется, что солнце не ушло за горизонт, а вселилось в тихий безлюдный лес, спящую реку, в плывущие по реке деревья. Куда ни посмотришь, нет ни единой тени.
Пинега несет нас сквозь угрюмо нависшую тайгу, мимо белых крутых берегов и зеленых пожень. Редкая моторка, редкая деревенька встретится в пути. И только гулкая кукушка отсчитывает время и расстояние.
Бледно-розовая дорожка на воде упирается в отвесный берег. Разбежавшись с высоты, падает в реку ручей, и там, где он упал, клубится пар. Плывет наша лодка, а рядом с ней бледной ладьей плывет месяц. Он дрожит на волнах, переливается, то густеет, то расцветает закатом. И никто из нас не смеет оскорбить тишину нечаянным словом.
Вот плывет могучая сосна — литой столб, отливающий румянцем. Бревну подивился даже егерь Думин, мой спутник. Он родился и вырос на Пинеге, исходил не одну сотню километров по здешним глухоманям и все же удивился.
— Такую деревину нынче уже не встретишь, — сказал егерь, сожалея. — Такие только в Чаще растут.
Чаща! Может быть, он оговорился? Неужели та самая Берендеева чаща, воспетая еще Пришвиным?
— Да, та самая, — буднично объяснил Думин. — Если доплыть по Пинеге до устья Илеши, а там по Коде, притоку Илеши, подняться к истоку, а там перейти глухой сузем, то будет речка Порваш. Там, на трех холмах, и стоит Чаща...
Михаил Михайлович побывал в Чаще в 1935 году и оставил описание этого заповедного уголка северной русской природы в очерке «Берендеева чаща» («Северный лес»). «Лес там — сосна за триста лет, дерево к дереву, там стяга не вырубишь! — приводит Пришвин слова местного охотника. — И такие ровные деревья, и такие чистые! Одно дерево срубить нельзя, прислонится к другому, а не упадет».
...Изба, где мы собирались заночевать, оказалась занятой: в дверях стоял человек. Когда наша лодка ткнулась в песчаный берег, он вышел навстречу. Круглолицый, крепко сбитый старик — во внешности ничего примечательного, разве только глаза, излучавшие добродушие.
— Вот кстати-то, а у меня чай поспевает.
Он помог нам выгрузиться и без лишних расспросов проводил к избе.
После чая старик разговорился. Плыл он днем за дровами, плыл тихо, торопиться некуда — и вдруг заяц. Сидит на бережку и лапки вычищает. Шкурка на нем чистая, будто отутюженная, так и играет на солнце, а ушки окантованы черным с коричневым — очень модный заяц. Подплыл к нему старик, камнем достать можно, а серому хоть бы хны — не боится, отвык от человека. Крикнул старик, взмахнул рукой — пора бы зайцу струхнуть. А он только ушками поводит. Вот сатана!.. Посмотрел он на человека, уразумел, что несдобровать ему, коли тот разозлится, и ушел. Не убежал, не дал стрекача, а именно ушел — лениво так, с развальцей, то и дело останавливаясь перед вкусной травкой. Вот какой заяц!..
Дробно, словно на пределе дыхания, сыпалась на меня круглая, как горох, окатная, наливная речь. Старик начинал говорить резко, высоко, как бы «скорострельно», а заканчивал фразу неожиданным распевом, с удвоением гласной, как бы удивляясь. Удивительный говор на Пинеге. И такой симпатичный, простодушный, что даже ругательства в устах северянина звучат почти как добрые напутствия.
Горячий чай и тепло избы разморили меня. Хотелось порасспросить старого человека, но язык уже не слушался. В полусонном сознании осталась просьба старика: показывая на мой фотоаппарат, он говорил, что хотел бы сняться на память: сыновья и внуки живут далеко отсюда и надо бы послать им карточки, а ехать в райцентр накладно, да и дел невпроворот; вот бы корреспондента попросить...
Наутро старика не оказалось.
Мы сидели на лавке, ели дымящуюся, густо наперченную уху, и Думин, отправляя ложку в рот, сказал:
— Хотел вас разбудить Губин-то, чтоб вы его щелкнули. Да пожалел!
— Губин? — У меня перехватило дыхание. — Так его фамилия Губин?
— Ну да!
— Александр Осипович? Из деревни Ручей?
— Точно!
Вот она, судьба! Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь... Прошлым летом я охотился за этим Губиным, разыскал его деревню, но самого старика не застал — он уехал в лес. А вчера ночью Губин будто специально поджидал меня здесь, рассказывал о зверье, и я не только не сфотографировал его, но не спросил даже фамилии.
Губин, без сомнения, личность примечательная, но чтобы убедить в этом читателя, нужно снова вернуться к Пришвину, к его давней поездке в Чащу.
«У пекаря перед нашим отъездом собрались все начальники — надо было решить, кого из работающих на сплаве отправить с нами по Коде. Требовался очень сильный человек: Кода из всех здешних речек самая быстрая и порожистая... Названо было несколько кандидатов очень сильных сплавщиков. Но когда я сказал, что, кроме силы, проводник должен быть хорошим охотником, то из названных остались только двое — Александр Губин и Павел Лушин. И когда я прибавил, что человек этот должен быть речистым, то Лушин вовсе отпал...»
Вскоре путешественники с проводником сели в лодку-осиновку и, отталкиваясь шестами от берега, поплыли против течения навстречу Чаще... В пути писатель размышлял:
«Теперь все зависит от Губина: тут ведь большие поэты не ездили, как в Крыму или на Кавказе, и нельзя, как в долине Арагвы, вспоминать Демона — тут скромный местный человек, неведомый поэт со своим фольклором, со своей устной словесностью, является единственным ключом к тайнам природы. Заговорит Губин или останется только двигателем? По его виду можно думать, что он будет молчать: лицо круглое, курносое, в глазах выражение скромного достоинства, как бывает всегда у очень сильных людей, и сверх этого, кажется, требовать ничего нельзя...
Чтобы упираться в землю веслом, мы должны держаться берега, и я, рассматривая берег, вижу знакомое мне по всем весенним рекам явление: трясогузка бегает у края воды, и остается от нее на песке грамотка. Вот разве на этом испытать Губина.
— Александр, как это ты понимаешь?
Губин смотрит на большую страницу, исписанную лапками трясогузки, и отвечает деловито:
— Сию минуту эту книгу я прочитаю.
После этого он ловким движением вводит лодку в маленькую бухточку, припирает веслом и, вдумываясь в иероглифы на песке и как бы вслушиваясь в себя, готовится к ответу... Говорит он своими северными короткими фразами, с полувопросом на самом последнем слоге: