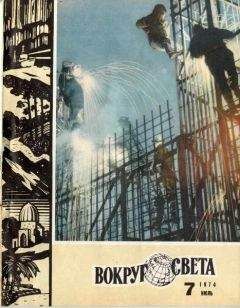— Илеша и Кода — две сестры.
На Илеше вода сильно сбежала.
Оттого Кода сильно спешит,
а птичка бежит у воды.
И у птички маленькие лапки,
и на песке от лапок дорожка.
Утром птичка написала,
вечером птичка написала пониже.
На другой день еще ниже.
И у птички стала целая книга
оттого, что Кода спешит,
Кода догоняет сестру свою Илешу.
Ответив на мой вопрос, Губин быстро выводит лодочку из бухты и как ни в чем не бывало начинает дальше подпихиваться, избегая встречи с бревном».
Они плыли среди глубинных заломов: вековые деревья, падая в воду, преграждали путь, и нередко лодка застревала в этом буреломе. Не лучше было и в лесу — еловые сучья кололи глаза, нога проваливалась в сыром мху, то и дело попадались болота. А тут еще тяжелая поклажа, и пот застилает глаза, и конца пути не видно: трудное было путешествие... Александр Осипович Губин понимал эти трудности и, выпевая на коротких привалах свои былины, возвращал путникам потерянные силы.
«— Хороша елочка, если одна растет,
а две елочки сошлись — у них ссора.
Много елок — темно и страшно.
Приходит человек, рубит большие деревья,
человек рубит избушку и клеть.
Проходит малое время, и на месте елей
вырастают березки, и вся избушка в березках.
И весело! Да и одну березку где-нибудь увидеть
весело, и скажешь: скорее всего тут был человек.
...Так за разговорами незаметно добрались мы до Каргавы (приток реки Коды), и все, что нес с собой Губин, мы оставили в клети охотника себе на запас, даже не замкнув клети. С этого места Губин должен был вернуться, но я думал — он еще отдохнет, пообедаем вместе, чаю попьем: человек-то уж очень хорош, жалко расстаться. Но когда Губин, уложив вещи, вылез из клети и я сказал ему «спасибо!», он понял, что я за все «спасибо» сказал, что слова мои были последние. Он повернулся и пошел, и мы не скоро только поняли, что он совсем ушел.
— Какой хороший человек! — сказали мы...»
Вот какого человека прозевал я.
Возвратившись в Москву, я решил хоть как-то поправить свою ошибку. Я знал, что будущим летом снова поеду на Пинегу, а потому стал загодя готовиться к встрече с Губиным.
Единственным человеком, кто знал Александра Осиповича по совместному путешествию в Чащу, был сын писателя — Петр Михайлович Пришвин. Как выяснилось, живет он в подмосковной деревне Федорцово и долгое время — до выхода на пенсию — работал директором здешнего охотничьего хозяйства. В 30-е годы Пришвин-младший часто помогал отцу собирать материал во время поездок по стране и, конечно же, не мог пройти мимо такой колоритной фигуры, как Губин.
Когда я назвал его фамилию, Петр Михайлович сразу же оживился, заговорил о нем как о старом знакомом, не напрягая памяти, так, будто он простился с ним вчера, а не тридцать с лишним лет назад. Свой рассказ он подтвердил дневником, который вел, помогая отцу, в течение всей поездки по Пинеге:
«30 мая 1935 года. Наш проводник — парень лет 29-ти — был вначале так же грозен, хмур и неразговорчив, как все, — читал я торопливую карандашную запись, сделанную, очевидно, на привале. — Потом постепенно «оттаял» и оказался самым настоящим хорошим человеком».
Такой уж характер у северян: сначала нужно приглядеться, почувствовать новых людей, а потом уже раскрыться перед ними. Впрочем, Михаил Михайлович «разговорил» его довольно быстро. В таланте общения писатель не знал себе равных. Охота, повадки разных птиц и зверей, жизнь деревьев — разве этого мало для сближения двух людей, живущих наедине с природой?
Петр Михайлович слушал их разговоры, а самое интересное записывал в блокнот.
Меня ожидал еще один сюрприз. Перечитав «Корабельную чащу», я увидел, что из документального очерка Александр Губин переселился на страницы повести-сказки. Он по-прежнему выпевал свои былины; в каждой реплике пришвинского героя — сказочника Мануйлы — чувствовалось добродушие и скромное достоинство реального Губина.
Очерк, написанный по свежим следам путешествия по Пинеге, и повесть-сказку разделяли 15—16 лет. Между ними пролегли война, новые поездки, новые книги. Но память о нетронутой Берендеевой чаще и молодом проводнике была, по-видимому, столь сильна, что Михаил Михайлович вновь вернулся к теме северного леса.
С этими впечатлениями я поехал на Пинегу. На этот раз все обошлось без приключений. Я написал Губину о дне своего приезда и едва сошел с лодки у деревни Ручей, как сразу же увидел Александра Осиповича. Навстречу мне шел загорелый, ладно сбитый старик. Глаза его были детскими и ясными — цвета голубой озерной воды, как бывают у больших и добрых людей.
— Как поживаете, Александр Осипович? — спросил я, не зная, с чего начать.
— А это кому как нравится, — присказкой ответил Губин. — Кому на печаль, а кому и на великую радость. — Он засмеялся, потрогал мой фотоаппарат. — Тебе дак на радость — старика приехал сымать. Мне радость вдвойне — сынам карточки пошлю. А вот моей старухе!.. — И он снова рассмеялся.
Я узнал, что жена Александра Осиповича не очень-то жалует случайных гостей: дел по дому набралось — не оберешься: клеть надо починить, за дровами съездить. А тут эти разговоры!
Похожая на худую нервную птицу, она метала на нас громы и молнии, испепеляла меня взглядом и не переставала ворчать. Все это время я чувствовал себя лишним. Губин же, наоборот, вел себя совершенно естественно и всячески вышучивал жену.
Так же естественно — не потому, что мучает стариковская страсть к разговорам, — выложил он мне про то, как с малолетства пахал деревянной сохой, как учился читать следы разных птиц и зверей, постигая лесную премудрость, как впервые встретился с медведем и «порато напугался»: хозяин тайги был весь белый, как муха в сметане, — залез в чью-то охотничью избушку и вывалялся в муке, которую припасли на зиму...
В 1940 году Губин ушел на войну: сначала на финскую, потом на Великую Отечественную. Защищал Ленинград, освобождал Польшу, участвовал в штурме Берлина. В 1946 году вернулся домой, в Ручей, имея три ранения и контузию. Хотел показать свои медали, что лежат на дне сундука, да вспомнил, что жена куда-то задевала ключ. «Потом покажу, — пообещал он. — У меня дак еще благодарности от колхоза — знаешь, сколько я домов поставил и печек выложил!»
— Плотницкое дело с топора начинается, — сказал Губин серьезно. — Как держишь топор, так тебя и видно: дровокол ты или плотник. — И добавил осуждающе: — Сейчас уж плотники повывелись. Топором стучать охотники — это пожалуйста!
Он вспомнил, что после войны годы пошли сплошь «зелеными» — хлеб на корню вымерзал, и они со старухой месили жито пополам с овсом. Вспомнил, как однажды попал с колхозной лошадью в ледоход, и понесло их вниз по реке; как храпел конь, зачуяв беду, не давался в руки, и как он сломил его волю — наполовину в седле, наполовину в ледяной воде добрался до берега и спас себя и лошадь. «Шапку вот только потерял, — горевал он. — Хорошая была шапка, всю войну выходил...»
Мы не долго просидели в избе: Губину нужно было съездить в лес, проверить заготовленные на зиму дрова, и я увязался с ним.
Плыли мы на лодке-осиновке, похожей на славянский челн, с гордо вскинутым носом. Потом шли пешком по глухой красивой тропе, среди темных колючих елок, и все это время Александр Осипович молчал. Может быть, он ожидал вопросов от меня, а может, слушал лесные голоса?
Кто-то хорошо подметил: каждый охотник — это сочинитель собственной тропы. Он творит ее по своему образу и подобию. Угрюмый, склонный к одиночеству человек прокладывает тропу в болотистой согре, чтобы не заметил ее посторонний глаз. Наоборот, добрый и великодушный выведет свой след в исполинский сосновый бор или на светлую игривую речку, поставит в уютном месте лавочку-завалинку, чтобы можно было перекинуться словом или покурить. В своей избушке он обязательно подумает о будущем госте: у него всегда в порядке печка-каменка, и фитиль сдобрен керосином, и хлеб с. солью есть, и старая доха впрок — живи, наслаждайся.
Торфяное болотце, мимо которого мы шли, выдохнуло серое облако комарья. Оно жгло лицо, мешало думать и говорить.
— Смотри! — сказал Губин, отвлекая меня от комаров. Он показал на елку, у которой была ободрана кора. — Знаешь, отчего?
Я молчал.
— Силки здесь стояли старые, и белка попалась в них. Билась она с горя-тоски и все о дерево цеплялась. Вот почему кора зарумянилась...
А потом Александр Осипович подвел меня к высохшей во мху ямке.
— Олень или лось? — спросил он, и сам себе ответил: — Олень! Поди, залез с испугу в топкое место — и ямка тут образовалась, и вода в ней высохла. Вишь, какое копыто слабое. Старый, видать, был олень — в дикой старости...
В лесу у него не было пустых мест; в каждой мало-мальски видимой веточке, кусте, изгибе тропы он видел древние и новые пласты жизни, которую прожили до него звери, птицы или кто-то из его друзей-охотников... Вот здесь, он показал место, недавно разводил костер Максим Савватеевич с Вадюги, знаменитый охотник; с ним он не раз белковал, ставил силки и капканы, и потому хорошо знает, как тушит тот горящие головешки... Вот здесь, когда-то стоял девственный бор, и начальство хотело открыть разработку, но в какую-то зиму выдались сильные морозы, и деревья треснули, смола вытекла, а в трещинах завелись черви... «А вот эту избушку, — сказал Александр Осипович, останавливаясь, — рубил я сам...»