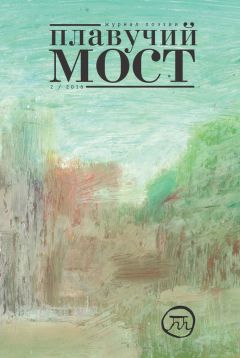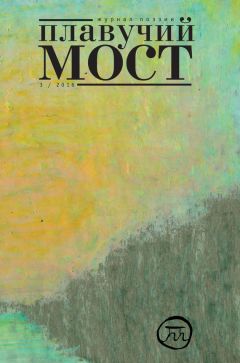* * *
Любовь – это двадцать лет разлуки,
Это тысяча лет такого огня,
когда руки не помнят что они – руки,
и не видят глаза среди бела дня.
Есть горы вокруг, но нет преграды,
моря – но и они не страшны.
И нет ничего на земле – и не надо! –
в час стыдящийся себя тишины,
в час ночного, бушующего прибоя,
когда на волну идет волна,
и двое не помнят, что они двое –
дыханье одно и плоть одна.
…Пусть глаза мне замажут золотом меда,
пусть славушка прилипнет сильней репья, –
я возьмусь за любую черную работу,
любую муку перемучаю я.
Муку перемелю, полы перемою,
в ушко пролезу почти без труда,
потому что я знаю,
что это такое –
быть в разлуке.
И уже навсегда…
1982
А собственно, что же такое разлука?
Мы не были даже знакомы и дня,
но кто-то нас отнял уже друг у друга:
меня – у тебя, а тебя – у меня.
Ты помнишь, как счастьем дышала округа,
как тело хотело огня и огня?!
Но не было нас и тогда друг у друга:
меня – у тебя, а тебя – у меня.
Когда же и впрямь наступила разлука,
то мы и не знали, друг друга виня,
что нет уже тысячу лет друг у друга:
меня – у тебя, а тебя – у меня.
Ни горе, ни счастье уже не пугают,
но мучает голос из крайнего дня:
– Зачем отнимают, зачем отнимают
меня у тебя и тебя у меня?..
1983
Тебе – почти что сорок,
а мне – почти что двадцать.
И мокрых листьев шорох
мешает целоваться.
Не то пройдет соседка,
не то сосед заглянет,
и хоть цела беседка –
беседовать не тянет.
Качнет шары гортензий
или шепнет на ушко,
но к ветру нет претензий –
проглядка и прослушка!
Потом промчится время,
летучее, как пламя.
И что там станет с теми,
застенчивыми, нами,
никто уже не вспомнит,
никто уже не знает.
Лишь ветер парус комнат,
как прежде, надувает.
Там мне – почти что сорок,
тебе – почти что двадцать.
И кажется, что – морок,
и тянет целоваться.
И видится, что шалый
горит огонь в камине.
И губы твои – алы,
и губы мои – сини
от взглядов этих жарких,
застенчивого «здрасьте»,
от этой кочегарки
безумия и страсти.
…Закуришь, выйдешь в сени.
Я встану на пороге
у молодости, лени,
у полной безнадёги…
Все пропадет – и молодость, и сила
не одного сводящая с ума.
Покинут все меня. Не ты ли, милый,
средь первых будешь?..
Да и я сама
уйду от вас. Снега моей державы,
моих степей глухие ковыли
и сильных рек большие переправы
меня спасут от близости земли –
сырой, отверстой, глинистой…
Печалью
нас в этом мире вряд ли удивишь.
…Две девочки – две парки за плечами
прядут, прядут немыслимую тишь.
И им в ответ семь ангелов играют,
и, содрогаясь, слышу я вдали –
моих любимых ангелы сзывают
на Страшный Суд – со всех концов земли.
1981
Зеленоваты без претензий,
почти уже в осеннем гриме,
ажурные шары гортензий –
гидрангий, как сказали б в Риме –
не нашем нынешнем, а Древнем,
и также древности подобны,
пристанционные деревни
микроскопически подробны:
заборы, мостики, перила,
старуха в пестром «адидасе»,
и все, что не было и было
в каком-нибудь девятом классе.
Мы сами выбрали разлуку,
чтоб к прошлому казаться ближе,
и если ты протянешь руку,
я, может быть, ее увижу –
из этой электрички шумной,
из нашей жизни безутешной,
из юности ее безумной,
её гортензии нездешней…
2004
Почти что на краю оврага
есть синий обветшалый дом.
Но мы не сделаем ни шага,
чтоб снова очутиться в нем.
Пускай в малине одичавшей
гудят огрузлые шмели.
Но я молюсь, чтоб эту чашу
повторно мимо пронесли.
И ты молись, чтоб всё пропало,
рассыпалось до мелких снов,
чтобы на паперти вокзала
нам не хватило нужных слов.
Чтоб было глупо все, как было,
и, не растрачивая пыл,
чтоб я всю жизнь тебя любила,
чтоб ты всю жизнь меня любил.
2005
В Москве исчезли площади и скверы,
а вместо них – о, чур меня, о, чур! –
возвысились нелепые химеры,
пародии былых архитектур.
И там, где мы впервые целовались,
где воздух был от счастья голубой,
дома друг к другу жалобно прижались,
потом исчезли, как и мы с тобой…
2005
Две белые кофточки с юбкою узкой –
что надо еще мне теперь для души?
Ну, может быть, память с её перегрузкой,
да, может, скамейка, где спят алкаши.
На этой скамейке, о Боже, о Боже,
как долго нам грезился счастья обвал!
Какие жары и морозы по коже
ходили, когда ты меня целовал.
Мы просто расстались. А, может, не просто,
а, может быть, чья-то слепая рука
водила судьбой, отдирала коросту
с бескостного, злого её языка.
И стало греховным, что было безгрешно.
Но время прошло. И утихла родня.
И вот я стою у скамейки, и нежно
сам пух с тополей облетает меня…
2007
У розы засохшей на счастье такие права,
которые свежая роза давно позабыла,
такие права, что возможно спустя рукава
валять дурака
или брать его с жара и пыла,
последнее счастье –
какой это праведный сон,
какое свеченье,
какое во сне бормотанье…
О Господи, дай мне поверить,
что нету времен,
что роза не знает
ни вечности
ни увяданья.
1995
Поздней страсти застенчивы тени,
но желаний бесстыден угар –
на земле не случался смиренней
и счастливее этот пожар.
Были юбки разбросаны смело
и цвели на полу, как цветы,
и почти обнаженное тело
не стыдилось своей наготы.
И в ночи фиолетово-серой
в деревянно-медовом дому
было больше неверья, чем веры,
что не сгинет, не канет во тьму
эта ночь, этот жар, этот лепет
и короткий, и сбивчивый сон,
этот холод, дошедший, как трепет,
из каких-то библейских времен.
Были жесткие звезды неярки
под присмотром невидящих глаз.
И писала нам жизнь без помарки
в первый раз.
1997
Мир– под копирку, завернут в копирку,
в памяти – только пустые азы
или уменье тяжелую дырку
нежно заштопать крылом стрекозы.
Выбор богат, но невыбор – богаче.
Время постыло, но вечность простила
то, что гляжу я влюблено, незряче
на фронтовое затишье из тыла.
…Мой лебединый, мой сладостный
мальчик!
Пусть наше время давно улетело,
я – восьмиклассница, как же
иначе
мне объяснить твое жаркое тело!?
Дело не в том, но не в том и безделье,
Что из былого – могилы и дети
нас окликают, а все, чем владели,
плавает где-то, почти в Интернете.
Мир не поймал в свои глупые сети,
но и не сдался без боя на милость.
…Вот и обуглилось все, что дымилось,
вот и остались мы вместе на свете.
1997
«…К тому ж двадцатый век стоит в саду, а вместе с ним я белый свет покину…»
Н.К., 1980Как девочка вайнахская – со страхом,
как юноша из Углича – в Чечне,
так я гляжу… И все покрылось прахом,
и отжило, и умерло во мне.
Отец и мать давно в сырой могиле,
и ты один мне – муж на небесах,
иных уж нет, а те – ушли, уплыли
и лишь окно оставили в слезах.
Так я о чем? О том, что ветер резкий,
что мир, как прежде, и нелеп, и груб,
Но смотрит Кто-то из-за занавески –
и не разжать закаменевших губ.
Я много лишних слов наговорила,
как бы с нечистой силою в ладу…
О, Господи, прости мне и помилуй, –
двадцатый век уже отцвел в саду.
В Твоем саду, о милостивый Боже,
Твоей покорна силе всеблагой,
стою теперь, и праведней и строже,
и знаю, что нет смерти никакой.
1998
И кофе вблизи Люксембургского сада
у рыжей и алой листвы на виду
запомнится странной рифмовкой с «де Сада»
и тем, что мы не были в этом саду.
и тем, что летела листва, умирая –
в щемящий пунктир превращалась черта,
и осень, как будто преддверие рая,
для нас распахнула свои ворота.
2007
Ты говоришь: не плачь, еще не время,
еще не время, – говоришь, – не плачь…
Но желтый лист тебя целует в темя,
целует, как Иуда, как палач.
Раскрыла осень подлые объятья,
и мы одни – среди летящих стрел.
…Я крашу рот и поправляю платье,
чтоб на меня и ты без слез смотрел.
2009