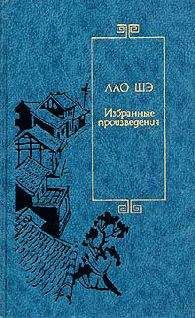Но всего этого так и не пришлось сказать. Когда я повернулся к Розе, то увидел, что она уже спала, доверчиво вжавшись в убаюкивающее кресло ночного «Икаруса».
Эрмеку и тетушке Чолпон очень не хотелось отпускать нас от своего гостеприимного и чуточку торжественного стола, но время уже набрало скорость, ждал «газик», и лихой шофер Джапар, деловой заворг Биримкул и застенчивый фотограф Витя повезли нас к Гумбезу Манаса.
Машина остановилась у серебристой решетчатой ограды. Я вытащил блокнот. Но в обступившей тишине, в этом простом и ясном утре, опустившемся в весеннюю долину, и этот блокнот, и то, что он заставил бы делать, казалось неуместным, чужеродным. Я незаметно спрятал его и поймал насмешливый взгляд Розы.
— Так каким же вопросом вы хотели испугать меня?
— Извините, Роза. Я не запишу ни одного вашего слова и не задам ни одного вопроса.
— Но как же?..
— Как же я выйду из положения? А по Тютчеву — «и нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Я постараюсь быть достойным сочувствовать с вами... И да осенит меня благодать понимания.
— Ну что ж, — улыбнулась Роза. — Рискнем. Тоже по Тютчеву — ведь «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...» Особенно в журналистском варианте. А пока — смотрите.
...У края огромного ровного поля, окаймленного зимними еще Таласокими горами, прислонившись к остроугольному холму, стояло под ребристым шатровым куполом строгое сооружение. Монументальность его архитектурных пропорций угадывалась мгновенно. Но монументальность эта не подавляла: как истинное величие, она была соразмерна человеку. На каменной площадке перед резным, украшенным вязью арабских" букв порталом молча сидели, скрестив ноги, как в своем доме, несколько старых людей. Увидев нас, они так же молча встали, как бы уступая нам на время своего собеседника. Но отошли недалеко, словно давая понять: сколь бы долгим ни было это время, оно для них, старых людей, будет незаметным мгновеньем, бессильным прервать их вечный молчаливый разговор с Манасом.
Внутри Гумбеза было пусто — лишь на кирпичном полу, у входа, лежали три причудливых камня («Копыта и сердце коня Манаса», — сказала Роза) да к низкому своду лепилось ласточкино гнездо. Потом мы поднялись на холм, высящийся рядом — на вершине его еще виднелись следы кладки сторожевой башни, охранявшей когда-то вход в Таласскую долину. Она лежала до самых гор, и кони дальнего табуна казались неподвижными, как наскальные изображения.
— Роза, — сказал я. — Ваш ученик уже вошел в аудиторию...
Я действительно ни разу не достал блокнот. Ни у Гумбеза, ни когда навещали родственников Розы. Ни в доме чабана Асранкула, который громко и многословно обижался и призывал многочисленных свидетелей — детей, внуков, жену свою Аяпу, соседей — разделить эту обиду, когда Роза сказала, что приехала на часок, что надо еще навестить тетушку Суйунбюбю-апа и дядюшку Бекетая в дальнем Кок-сае, и времени нет ни на родственный той, ни на соколиную охоту (сам сокол сидел на руке Асранкула и со злой укоризной глядел на нас, лишивших его этого праздника). Ни потом, за вечерним и бесконечным — к ночи — достарханом в доме Бекетая. Да и о каком блокноте мог я вспомнить, сидя на узорчатой кошме, когда старые женщины разламывали мне теплые лепешки и пиалы с красным чаем на донышке подавали так, что я не смел их принимать одной рукой. И я солгал бы, если бы упорядочил наш разговор в логичный диалог, ритмически уравновешенный продуманно-эмоциональными монологами. Наша двухдневная беседа напоминала археологические раскопки, когда начало смысла работы скрыто в непредсказуемой глубине ее. И начало этой беседы я вспоминаю поэтому не на сторожевой горе Манаса, а в доме Бекетая, когда с робостью опустился на ослепительные узоры лежащей на полу кошмы. Роэа, ВИДИМО, заметив эту «музейную.» нерешительность, сказала, в общем-то мимоходом, что узоры на древних киргизских коврах и кошмах — практически забытые письмена, к расшифровке которых ученые приступили лишь недавно, опрашивая стариков и народных ковроделов. «Так ведь вообще, — ответила Роза на мое удивление, — не было бесписьменных народов. Люди никогда не существовали без общения. И поэтому то, что такие письмена забывались историей, — закономерно. Это же самоубийство — веками сидеть только на своей кошме и читать только свои узоры».
...Я не помню многого из того, о чем мы говорили (и, кстати, не огорчаюсь этим, так как верю в полуфантастическую гипотезу о том, что раз услышанное или прочитанное уже навсегда остается жить в человеке отдельно от его такой несовершенной памяти), но эти слова запомнил — как начальную точку отсчета смысла всей моей поездки.
Мы говорили об общении. О том общении, которым жив каждый из людей, и о том, которое движет историю. Случайно ли, спрашивали мы себя, гений любого народа своих эпических героев посылал на границы и за пределы привычного и обжитого бытия? В таинственную засечную степь, за холмы своей земли, уходил князь Игорь, и в далекую страну Бейджин вел своих батыров непобедимый Манас. Шумеры отправили Гильгамеша на поиски секрета бессмертия, а эллинское, в общем-то не избалованное масштабами мира воображение заставило хитроумного Одиссея пройти нечеловеческие испытания на изъезженных морских путях. Как средневековые художники, которые, презрев унылую логику линейного времени и пространства, сводили в единой беседе Улугбека и Платона, Ибн-Сину и Сократа, мы усадили вокруг Бекетаева достархана мужей, родившихся в Древней Руси и на крошечном островке Средиземного моря, у подножия Таласских гор и в глиняном городе на равнине меж Тигром и Евфратом. И они поняли друг друга, потому что рассказывали не о конкретных своих делах — покорении чудовищного Хумбабы в Ливанских, кедрах, разгроме Трои, битве с печенегами, войне с народом Бейджин, но о том, что стояло за всем этим: о жажде познания мира и единения людей... И это поддержал Платон: «каждый из нас сам для себя бывает недостаточен и имеет нужду во многих». А Аристотель согласно добавил: «Один судит об одной части, другой — о другой, а все вместе — о целом».
Мы слушали своих учителей, несущих тяжесть ответственности за судьбы народных чаяний и надежд, и понимали, что выдержали они эту тяжесть только потому, что каждый из них ощущал себя живущим в срединное мгновенье истории, которое одновременно и ученик прошлого, и учитель будущего. Но разве — задавались мы невысказанным вопросом — наше поколение не является таким же учителем и учеником? Разве еще не родившее будущее не зависит от нас — нашей совести, наших решений, наших дел? Ведь история — учитель бесстрастный. Она не проверяет конспекты своих учеников. Она говорит монологом и не обращает внимания на бессмысленные или жестокие реплики.
И естественно, Роза заговорила о семинаре, который готовят ее студенты. «Мы будем рассуждать о народных карнавалах как о праздниках общения. О том, что эти праздники всегда были свойственны народам. О том, что, как бы этнографически ни разнились они своими формами, в них всегда было нечто единое, которое можно назвать воспитанием души на восприятие. И что это воспитание и есть восхождение разума. Мы проведем, — говорила Роза, — сквозь историю нескончаемую спираль этого восхождения в наши дни... «За мир и дружбу» — разве не это всегда было основным смыслом и надеждой разума? Разве не эта надежда родила саму идею Всемирных фестивалей молодежи и студентов, надежда поколений, прошедших самую жестокую и героическую войну в человеческой истории?»
...И сейчас мне кажется, что Роза сказала еще: «Мы живем на земле людей, где каждый — учитель и ученик. И мы обязаны воспитывать себя так, чтобы слово и вся жизнь каждого из нас отозвались миром...»
Скорее всего это произнесено не было. Но я рискнул написать эти слова, потому что услышал их в памяти о днях, проведенных на таласской земле, готовой принять в себя весенние труды человека.
В. Левин, наш спец. корр.
Плывет пароход по Северной Двине, не спеша распахивая одну излучину за другой. За кормой стеклянно вздуваются волны, и в каждой трепещет холодный синий огонь. Река спокойна и бесконечно разнообразна: она то лавирует среди глухих, матерых лесов, то выводит на широкие волнистые луга с деревеньками-невеличками; берега ее то выстреливают древними, похожими на растрепанных леших лиственницами, то обнажаются кирпично-красными щельями, увенчанными штабелями бревен. С берегов тянет терпким запахом прелого листа, влажным мхом, свежеоструганным деревом. Сквозь перестук пароходных колес пробиваются голоса прожорливых чаек, на высокой комариной ноте звенят моторы встречных лодок, да звонко заявляет о себе ручей, падая в реку с крутого обрыва.