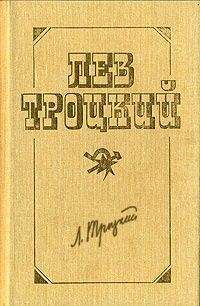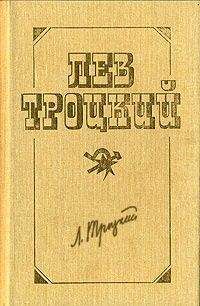— Сделай печку! — бросил он через плечо, когда сани заскрипели. — Из ведра.
— А трубу?
— Из консервных банок. Дно ведра начисти до блеска. Будем на нем блины жарить.
Последние слова я слышал еле-еле. Сани уже скрипели в чаще леса. Собаки побежали за Иннокентичем. Только Соболь остался.
Я никогда не думал, что в тайге так страшно, когда один. Ладно, еще светло. Я заправил керосином лампу, положил рядом спички, чтобы потом не искать в темноте. Решил маленько прогуляться. Надел лыжи, взял ружье, пошел. Отошел недалеко. Лес здесь был кое-где повален. Вывороченные корни промыло дождями, и я увидел старух с десятками вьющихся рук, спрута со слоновьим хоботом и прищуренным глазом. Утиные головы вытянулись в мою сторону. Стоило зайти к выворотню с другой стороны — и одни чудовища исчезали, появлялись другие. Мертвые деревья стояли вперемежку с живыми, слегка поскрипывали, как двери на заржавленных петлях.
И вдруг деревья заскрипели что есть силы — это налетел ветер, сдувая кухту, и недалеко от меня, шагах в тридцати, толстая пихта стала медленно, а потом все быстрее и быстрее падать, осыпая снежную пыль с соседних деревьев. Упруго ударилась и надломилась посредине. Я торопливо пошел по своим следам. «Если такая пихта упадет на зимовье, тогда конец», — подумал я.
В зимовье я первым делом засветил лампу и позвал Соболя.
— Ляг, отдохни, — сказал я, хотя вряд ли он мог особенно устать, потому что от зимовья не отходил, а валялся около костра. Пес лег и пристально поглядывал на меня, словно он — ровня. И не было в его глазах ничего собачьего.
С наступлением темноты звуки тайги сделались отчетливее. Ветер гудел в вершинах деревьев заунывнее, и скрип мертвых пихт был сильнее. Под полом слышалась возня и мышиный писк. Из щелей в полу веяло холодом, и язычок пламени в лампе колебался, и тени колебались по бревенчатым закопченным стенам. А Соболь нагловато глядел на меня красноватыми зрачками и молчал. Я маленько посидел, покурил и стал делать печку.
Вернулся он на третий день, к вечеру. Уже луна светила вовсю. Я собирался укладываться, но тут залаял Соболь. Ему ответили издалека., И через минуту появился Иннокентич с Чарой, Шельмой и Ральфом.
— Почему собаку держал в тепле, — первое, что сказал он мне, — будет мерзнуть. — И дал гордецу пинка.
Иннокентич глянул на печку, что-то буркнул, разулся, повесил сушиться бакари, выпил остывшего чая и, свалившись на нары, захрапел.
Лицо его заросло рыжей щетиной, посерело, он был совсем похож на своего отца.
Ральф, наверное, вспоминал раздольное житье в Красноярске. И на улице ночевать не хотел, просился в тепло.
— Возьми веник, отлупи, — приказал Иннокентич, — спать мешает.
Однажды Ральф проскочил все-таки в тепло, бодренько отряхнулся, обрызгал нас и вскочил на нары, где спал Иннокентич. Старик взял полено, хорошо прицелился и огрел его по спине:
— Привык в Красноярске прыгать по торшерам!
Ральф даже не взвизгнул. Он понял, что в зимовье ему делать нечего. И не жаловался. Но с тех пор глаза его наполнились собачьей тоской.
Мы пробивали путики — лыжни, чтобы меньше уставать во время охоты. А идти по снежной пыли даже на широких камусовых лыжах и своему врагу не пожелаешь. Мало того, что идешь враскорячку, еще и проваливаешься чуть ли не по колено. Четверть часа — и язык на плечо.
Ральф облаивал соек и кедровок, ловил мышей. Иннокентич убил одну кедровку и, взявши ее за хвост и лапки, нещадно отлупил пса. С тех пор Ральф лаял на птиц, не разевая рта:
— У-у-у!
И виновато оглядывался на кого-нибудь из нас, как бы говоря: «Знаю, что нельзя на них лаять, но не могу удержаться, понимаешь!»
Чара уже успела загнать двух соболей. Снял их Иннокентич.
— Соболя в этот сезон очень много, — сказал он, — потому и белки нет совсем.
— Почему же его много в этом году?
— На Бирейке строят комбинат, зверь и уходит оттуда.
Иннокентич пошел по одному путику, я — по другому. Со мной побежали Ральф и Соболь. Но Соболь вдруг куда-то исчез. Я показал Ральфу след и сказал:
— Тут-тут-тут.
Он понял, что от него чего-то хотят, и засуетился. Пошел по следу, возвратился, проскочил назад, носился там, где вообще нет никаких следов. Наконец остановился перед мешком, где лежал кусок хлеба с салом, и, нацелив нос на мешок, осторожно тявкнул, как бы говоря: «Есть хлеб и сало. Давай съедим».
— Только и умеем бутерброды облаивать, — горько ухмыльнулся я.
Он снова заметался, озабоченно наклонив голову, и изредка, со вздохом раскаяния произносил тихое: «Гав!»
Это означало: «Вот досада!»
Он совал нос в мышиные норы, поймал одну мышь, бросил ее, снова заметался, весьма трудолюбиво, часто дышал и как бы беспрестанно повторял: «Видишь, как я стараюсь!»
Я уже думал возвращаться и походить первое время с Иннокентичем. Объяснить ему, что дела, не пойдут, если он не научит меня. И тут услышал в стороне лай Соболя. Лаял он остервенело, с подвизгиванием. На мышь так не лают, на кедровку тоже. Я пошел через чащу на лай. Потом услышал, что к Соболю присоединился и Ральф.
Я увидел Соболя, был он весь засыпан снегом, но отряхиваться и не думал, увлекся охотой. А Ральф помогал ему гавкать, но облаивал не ту ель.
Мне, честно говоря, не нравилась манера Соболя идти по следу, гордо задрав морду. Так может идти только очень опытная и талантливая собака, Чара к примеру, но не начинающий гонористый щенок. Только все равно, правильно лает он, а не красноярец.
Я выстрелил. Посыпалась снежная пыль. Несколько мгновений спустя с верхних веток посыпалась кухта. Это удирал соболь-бусачок, весь рыжий. Я выстрелил опять, и он стал медленно падать, пересчитывая сучья. Псы кинулись к нему, но я сам кинулся вперед не хуже пса и отнял добычу. Потом долго расхваливал Соболя и Ральфа и, зажав головку зверька в кулаке, давал им по очереди нюхать. Ральф скосил глаза от вожделения и прокусил головку.
— Вот полудурье! — тихо произнес я. Громко ругать в такие моменты собаку нельзя: она может не понять за что.
Потом Соболь исчез. Только Ральф-дурачок трудолюбиво носился по тайге, изредка выскакивал на путик и, оглядываясь на меня, как бы говорил: «Я тут!»
На обратном пути я встретился с Иннокентичем, и к зимовью мы возвращались вместе.
— Где Соболь? — спросил он.
— Не знаю.
Когда мы добрались до зимовья, Соболь был уже тут, и, судя по следам, давно. И не чувствовал своей вины.
Иннокентич заскрипел зубами и даже побледнел от злости. Сбросил лыжи, подошел к красавцу и поймал его за хвост, Соболь завизжал. Иннокентич раскрутил его над головой и грохнул о землю. Казалось, вся тайга наполнилась визгом. Остальные собаки бросились к Иннокентичу на помощь, стараясь вцепиться в Соболя: таковы уж псы.
Растопив печку, я залез на нары. Иннокентич молчал. Потом вытащил из мешка трех соболей и начал их обдирать. Я положил рядом свою добычу.
Иннокентич сделал ножом продольные разрезы на лапках и снял шкуру, как меховые чулки. Потом вытянул пальцы тупым концом лезвия ножа и обрезал их у основания коготков. Повертел головой, увидел бечевку на гвоздике над столом, привычным движением сделал петлю на основании хвоста и из пушистого красивого хвоста вытянул ниточку свекольного цвета.
Я возился часа три, пока снял с соболя шкурку. Иннокентич мрачновато поглядывал на мое вспотевшее лицо и что-то ворчал себе под нос. Мне он не сказал ни слова, просто молчал. И это молчание было тягостно.
Морозы стояли крепкие, заснеженные деревья вмерзли в воздух, как в лед.
Наши запасы подходили к концу.
В те дни только старательная умная Чара работала до конца вместе с нами. Чара всегда была умницей. Иннокентич считал, что ее цена на вес золота. К работе она относилась серьезно. Она была очень сильной собакой и любила подраться, но во время работы подавляла в себе, любые собачьи желания. Только и Чара ошибалась. А как она переживала свои промахи!
Однажды она нашла след норки, молча пошла по нему. Добралась до полыньи и только тут поняла свою ошибку: это был отпятный след.
«Что же это я, старая дура!» — взвизгнула она и кинулась назад, будто ее ударили.
От голода Шельма и Ральф выбились из сил и вернулись к зимовью раньше нас.
Когда Шельма и Ральф увидели лицо Иннокентича, они стали жмуриться и поползли к нему на животах. Они поняли, что к чему, их стали мучить угрызения совести.
Их он не тронул, просто делал вид, что не замечает. Когда же разлил собачью еду по лоханям, они продолжали щуриться и отворачивались. Стыдились. Потом убежали в тайгу не евши. Стемнело совсем, и вдруг мы услышали лай.
— Однако, соболя загнали, — сказал Иннокентич, прислушиваясь. Взял фонарь и встал на лыжи.
Хобаки захлебывались от восторга: подвернулся случай искупить свою вину чужой кровью.