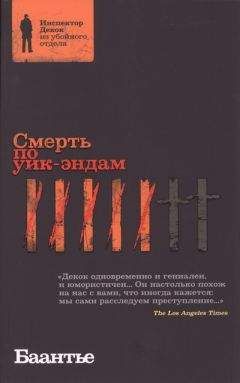подобны отражениям друг друга, и из-за искажений пространства он очутился так далеко. Но мог бы оказаться и в любом другом месте. Ему дали одежду и на рыбацком суденышке доставили в Дидоншань, а оттуда уж он добрался до родных мест, истратив всё то, что дал ему Владыка Ада. И, конечно, пропав так надолго, он не мог не поведать о том, что с ним приключилось, своему господину.
А род Хун тогда только-только набирал силу и был мало кому известен. Оттого особенно странно и удивительно было появление во дворце мало кому известного юноши и его быстрое продвижение по службе. Сначала он попал в свиту принца Сяо Цивана[3], который будто бы обратил на него внимание, потому что тот мастерски играл на флейте сяо. Но злые языки поговаривали, будто ублажал принца он не только музыкой. И что потому, когда принц почил, скверно пошли дела и у его любимца. И посему Хун отчаянно нуждался в деньгах, и будто бы именно поэтому, услышав рассказ своего гонца, решился на столь рискованный поступок.
Посоветовавшись с геомантами и всё, как ему казалось, предусмотрев, отправился он на тот постоялый двор и, отмахнувшись от предупреждений хозяина, велел поселить его именно в той зачарованной комнате.
Ночью он не стал раздеваться, повесил себе на пояс мешочек с деньгами и положил рядом свою флейту. И прождал так до Стражи Крысы. И когда уж он подумал, что проклятый гонец обманул его, а сам наверняка все эти месяцы где-то наливался рисовым вином и кувыркался с девицами из весеннего дома, налетели на него демоны и духи и унесли в царство Кэн-Вана. И увидав того в его демоническом обличии, чиновник Хун оробел, но всё равно почтительно склонился и поприветствовал владыку наилучшим образом. Тому это понравилось, и он спросил, что чиновник лучше всего умеет делать, и, когда Хун ответил, повторил ему всё то же, что и гонцу.
О дальнейшем сам чиновник, краснея, умалчивал, повторяя лишь то, что сыграл владыке Кэн-Вану на флейте, а потом получил от него два мешочка с серебряными лянами, но злые языки говорят, что пришлось ушлому чиновнику сыграть для вана не только на бамбуковой флейте.
И очнулся он не где-нибудь в лесу или горах, а прямо в одной из комнат чиновничьего терема в Дидоншане, и быстро сумел добраться в родной город, из чего сплетники сделали вывод, что раз даже владыка Ада так о нем позаботился, то любимцем принца Хун и вправду стал за своё великое умение и усердие. Правда, не в делах государственных.
А в той комнате с тех пор то и дело останавливались самые отчаянные смельчаки или ж те, кому уже нечего было терять. Кто-то из них якобы за одну ночь превращался в богача, а кто-то так и пропадал без следа, и никто не знал, какая судьба их постигла — не сумели они вернуться домой из тех мест, куда их забросило, или же не сумели потешить Владыку Ада, и навеки остались в его царстве.
Услышав этот рассказ, я мысленно вознес молитвы и благодарности богам за то, что наш путь должен был прерваться именно в Сяопэй, а не вёл нас дальше.
_______________________________________________________________________________________
[1] Умалчивание тут логично, потому что в то время пособничество дезертирам и анекдоты о членах императорской семьи могли в лучшем случае закончиться увечьями и каторгой. Не случилось это во многом благодаря покровительству фаворитки императора, при котором Мэн Байфэн обнародовал свою книгу.
[2] Цзюньчжу Сусян (422–509) — восьмой император Син, младший брат предыдущего императора — Цзюньчжу Ши. Известен, прежде всего, храмовым и городским строительством.
[3] Брат императора Хуан Цзилина, которому императоры Чжу Мао и Цилинь Цзяо приходились внучатыми племянниками, а их отец, принц Дангачже, родным.
Глава 15. Козни ловкой обольстительницы
Уже стояли сумерки, когда мы, наконец, достигли деревни Сяопэй. Довольно долго она находилась под властью маньчжань, а после переходила из рук в руки, от маньчжань к шанрэням и обратно. Поговаривали, будто не раз горела и перестраивалась, потому, хотя люди на этом месте жили, по крайней мере, с Эпохи Мятежников, подтверждалось это лишь записями времен императора Чи Ди.
Нынче ж это была большая деревня, одна из самых больших во всей империи, невзирая на название, и дома в ней выстраивались в изогнутые улочки, тянувшиеся от ворот до самой кромки хвойного леса вдали. Сами дома тоже различались — одни больше походили на землянки и полуземлянки, другие сложены из бревен и покрыты соломой, третьи — привычные для маньчжань мазанки, выстроенные вокруг опорных столбов, ну а четвертые, зачастую построенные не так давно — шаньрэнские фанцзы. Все, кроме землянок, с канами, без которых наземному дому в этом северном краю никак не обойтись.
Воин, встретивший нас и проводивший до гарнизонного терема, впрочем, огорошил тем, что в нём кан есть лишь на первом этаже, а второй отапливают не иначе как жаровнями. И ещё сказал, что вокруг деревни по всей длине околицы и день, и ночь стоят стражи. И что, хотя враг после боев в конце минувшей зимы отступил и впредь более не приближался, спокойствию вновь пришёл конец. И началось всё не то в конце прошлого месяца, не то в начале этого…Мой спутник хотел было порасспросить разговорчивого юношу подробнее, но мы уж пришли к терему, посему воин поспешно простился с нами и вернулся к своему товарищу на сторожевой пост. Мы ж переглянулись, и сянь Ванцзу стукнул кулаком в массивную дверь терема.
Тут же оттуда выскочил какой-то мужчина и, узнав, кто мы такие, завёл нас в дом, сказав, что нынче вечером гарнизонный начальник принять нас не сумеет, но в день грядущий непременно поговорит с нами обо всём.
Устроили нас на втором этаже, а, когда мастер спросил, только ль жаровней топится комната, мужчина посмеялся и сказал — «Да. А ещё здесь сами стены греют». Мы приложили ладони к стенам. Они и вправду оказались теплыми, отчего мы оба издали вздох облегчения. Всё стремительнее холодало, и на следующий же смурной день выпал снег. Из-за этого мы не сумели переговорить ни с начальником гарнизона, ни с обычными воинами, привлеченными к уборке снега, ни с сельскими жителями. Лишь под вечер уставший мужчина лет сорока пяти или чуть поболее того представился нам бубин сяоцзяном[1] Вэй и пригласил отужинать с ним, на что мы охотно и согласились.
–
Мы молча трапезничали втроем, и лишь, когда опустели