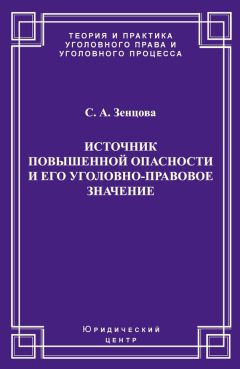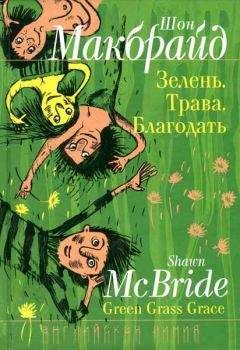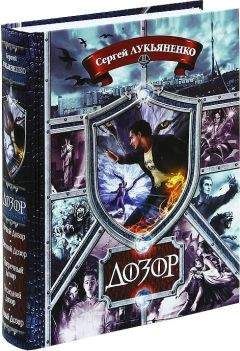— И все же, — в тон ему продолжал Норкотт, — цветы, мелкие знаки внимания и ваш новый гардероб поглощали бюджет без остатка.
— Дело не в этом. Родители — эта деталь рисует их целиком — сэкономили некоторую сумму специально для периода моего «становления». Загвоздка была в том, что у меня не оставалось времени для работы. Женевьева завела правило, чтобы я приходил к ней часов в шесть вечера и уходил утром. На уик-энды мы ездили к знакомым в Довиль или Аркашон. А приятные привычки быстро усваиваются. Когда Женевьева отправлялась — это случалось редко — на визиты к родственникам, я уже был не в состоянии корпеть над книгами. В шесть часов я словно павловская собачка кидался опрометью из дома — куда угодно, хоть в кино. Я жил, как в наваждении.
— Ревновали?
— Ревновал к ее прошлому, к ее нынешним знакомым, ее независимости. Вот типичная сцена: «Почему ты полюбила меня?» — «Потому что ты красив. Я люблю тебя, потому что ты не нудишь. Знаешь, ты чем-то напоминаешь отца. Он, конечно, сволочь, но это настоящий мужчина. Ты еще не стал мерзавцем. Но это придет. У тебя все данные». — «Ты выйдешь за меня замуж?» — «Нет».— «Думаешь, я всегда буду нищим, заглядывающим в окна особняков XVI округа?» — «Нет, милый. Родители были бы довольны такой партией. Они страшно боятся, что я втюрюсь в какого-нибудь джазмена или наркомана». — «Так в чем же дело?» — «В тебе слишком много амбиции. А я не хочу быть женой тщеславного мужа. Не хочу принимать людей, которые бог знает почему «нужны». А так — нравится, поеду на месяц во Флоренцию. Просто потому, что захотелось. И никто не будет меня пилить, что я гроблю ему карьеру. А ты что, с самого начала хотел на мне жениться?!» — «Нет, но я привязался к тебе».
Она вдруг так странно посмотрела на меня и четко произнесла: «Милый друг, прежде чем сесть за стол, я люблю пропустить несколько коктейлей. А ты путаешь сухой мартини с бифштексом». Я встал и ушел. Но на улице сразу же пожалел о вспышке гордости. Я реагировал именно так благодаря Женевьеве. Общаясь с ней, я отрешался от роли согбенного мещанина, который не может себе позволить роскошь подобных жестов и поступков. Шагая, чтобы успокоиться, от авеню Мессин до улицы Камброн, я вдруг обнаружил странную вещь. Мои отношения с Женевьевой были поначалу предельно просты. Юная дама отдается авантюристу; проходимец ищет приданое. Все верно. Только одно «но»: появились новые точки отсчета, новые мерки для меня самого.
«Тебе звонили. Два раза», — сказала со значением мать, когда я вернулся. Юна вся жила этим романом, сведения о котором до нее доходили урывками; Вскоре телефон зазвонил снова: «Милый, почему ты стучишь дверью вместо того, чтобы стукнуть меня?» — «Исполнение приговора суд отложил до следующего преступления». Я говорил весело, хотя понимал, что это я получил отсрочку. Возможно, Женевьева тоже менялась. Или это была просто надежда... «Если преступление произойдет сегодня вечером, ты вернешься исполнить приговор? Кстати, моя мать приглашает тебя на ужин». Меня как-то представили матери Женевьевы, и официальное приглашение вносило новую ноту в наши отношения. «В знак признательности, я не буду пользоваться топором. Трепещи, несчастная, возмездие грядет!» Я простоял несколько минут, держа трубку словно хищник, уцепившийся за добычу. А мать смотрела на меня с восхищением...
Родители Женевьевы излучали шарм. Отец, видимо, успел навести обо мне справки: энарх — это серьезная партия; мать думала о том, что внуки будут красивыми. Женевьева была нежна и повторяла: «Дай мне привыкнуть к этой мысли». А я... меня занимали другие заботы: приближался конкурсный экзамен. Безделье дало себя знать — я занял пятьдесят седьмое место. Учитывая убогие результаты, меня сунули в министерство экономического развития. Крохотный кабинет с видом на задворки. Шеф, подверженный мании всех второразрядных начальников — бездельничать днем и теребить сотрудников после пяти вечера. Продолжать?
— Да, вы упустили лирическую линию...
— Нет. Просто ситуация стала предельно ясной. Я догадывался о комментариях отца так, словно сидел у них под столом. У нас не произошло разрыва. Связь медленно угасала. Со временем мы перестали встречаться. Я не сопротивлялся: «болезнь неудачника» захватывает своих жертв как неизлечимый недуг. Я следил за симптомами с обреченностью онколога, больного раком. Мне стало нравиться сидеть дома в тапочках, мыть посуду; я оглушал себя телевизором. Реакция слабого человека, скажете вы. Но окиньте взором картину в целом: «Этот малыш Шовель, — судачили администраторы, — какое-то время подавал надежды. Да, поверхностный лоск. Но нет характера. Помните, как он пытался жениться на дочери магната X?» Я стал притчей во языцех: «Шовель? Это тот, что...» Или: «Только смотрите не кончите, как Шовель». Как говорил генерал де Голль, я шел через свою пустыню. Постепенно, очень постепенно я возвращался в нормальное состояние, уже не впадая в отрочество...
— Любопытная формула, — оценил Норкотт. — Немало интеллигентов, потерпев неудачу во взрослой жизни, впадают в отрочество. Извините, я прервал...
— Однажды утром ко мне в министерство на набережной Бранли явился человек по имени Демосфен Таладис, выдававший себя за грека и представившийся международным адвокатом.
— Все правильно. Он потом был замешан в заговоре «черных полковников».
— Но в те времена он представлял итальянскую, фирму кухонного оборудования... Они продавали свой товар во Франции по более дешевой цене. Французские фабриканты искали предлог, чтобы сжить их со свету. Кляузное дело в результате свалили на меня. Таладис говорил со мной так, будто от одного моего слова зависела его жизнь. Игра была грубой, но она ужасно льстила самолюбию, по которому ступал ногами всяк, кому не лень. Я постарался сделать все от меня зависящее и даже немного больше. Незамедлительно последовал вызов к директору. Ч-черт! Он мне выговаривал, как учитель провинившемуся мальчишке. Я позорю его министерство, я неисправим, я неблагодарный выскочка н меня ждет перевод в департамент Восточные Пиренеи. Он отбирает у меня это дело — и «пусть это послужит последним предупреждением, вы можете идти, Шовель». К счастью, начался обеденный перерыв. Трясясь от ярости, я помчался в бар и выпил три двойных виски. На голодный желудок такая порция взывала к мести. Таладис упомянул, что в обед его можно всегда найти в отеле «Георг V». Я позвонил ему и принялся рассказывать о случившемся. Это было не просто неосторожностью или нарушением правил, это было прямое должностное преступление. Узнай о разговоре директор, он бы не удовлетворился моим переводом даже на острова Сен-Пьер и Микелон. Меня бы просто уволили с волчьим билетом. Грек остановил меня после первых фраз и пригласил приехать отобедать с ним.
Шовель хмыкнул. Его рассказ, несмотря на комичность изложения, походил на жалобу.
— Теперь вообразите меня входящим в бар отеля «Георг V» в потертом костюмчике, с перекошенной физиономией. А вокруг люди, ведущие себя так, словно им принадлежит мир. Таладис повел меня в укромный уголок грилль-бара. Выбрав роскошное меню, он оказывал мне такие знаки внимания, что метрдотель, не в силах припомнить, кто я такой, серьезно опасался за провал памяти. Лангусты и шампанское подбодрили меня. Я блистал. Таладис внимательнейшим образом вникал в мои политико-экономические излияния, хохотал над сарказмами, переспрашивал, иногда задумывался. Льстивое выражение слетело с его лица, оно дышало волей. Кофе подали, когда я уже обязан был сидеть за столом в министерстве. Таладис перехватил мой взгляд, брошенный на часы. «Я очень удивлен, месье Шовель. Очень. Человек с вашими талантами явно не на месте...» — «К сожалению, дирекция не разделяет вашего любезного мнения». — «Если бы вам предложили пост, более отвечающий... впрочем, бросим околичности. Место в частном бизнесе, высокие гонорары, вы бы согласились?» — «Без колебаний». — «Сегодня у нас среда. Я позвоню вам в субботу утром, хорошо? Ваш домашний номер?» Он записал его на крохотной атласной карточке. Усаживая меня в такси, Таладис извинился, что не может изложить сейчас все подробности. Но он уверен, что я не пожалею о своем решении.
Как нарочно, шеф ожидал в коридоре. И пока он выговаривал мне за опоздание, я, переполненный шампанским, седлом барашка и надеждами, смотрел на него с пренебрежением: говори, говори, ты мне не страшен... В пятницу вечером я был у приятеля, который отмечал помолвку — он взял невесту с хорошим приданым. Ко мне все относились с жалостью. Теперь, когда я перестал быть конкурентом, они могли позволить себе роскошь блюсти гимназический кодекс. Меня предупредили по-хорошему, что докладная записка шефа с визой директора дошла до генерального инспектора. И тот, сам бывший энарх, решил, что мне пора преподать урок дисциплины и хороших манер. Он так буквально и выразился: «хороших манер». Приятель, сообщив мне эту новость, потупился. Я легко вообразил себе, какие еще комментарии позволил себе генеральный инспектор — тут и происхождение, и неудачное ухаживание, и карьера... На следующее утро я ждал звонка Таладиса. Нервы были напряжены больше, чем когда в Алжире наша машина попала в засаду. Звонок заставил меня подскочить чуть не до потолка. Встреча назначена на понедельник в ресторане «Лаперуз» — многообещающее место. У «Лаперуза» встречаются деловые люди, у «Максима» — высший свет, а в «Тур д"аржан» — богатая богема. Таладис и «швейцарский банкир Вилли Клейн» — в действительности наш друг Фрош — встретили меня в отдельном кабинете. Бальзаковская атмосфера: серебро, вычурный фарфор, незаметная обслуга. Чуть потускневшее зеркало, на котором знаменитые кокотки минувших времен вырезали даты своих забав брильянтовыми перстнями, полученными в дар за услады в этих же кабинетах... Ах, вот когда была жизнь! Грек, как я и думал, заставил меня повторить на «бис» номер, исполненный в «Георге V». На сей раз я хорошо подготовился... Когда наконец виночерпий, метрдотель и официант втроем стряхнули крошки со скатерти, уставили стол ликерами, проветрили кабинет, предложили сигары и благоговейно затворили дверь, Клейн — Фрош перешел к делу: