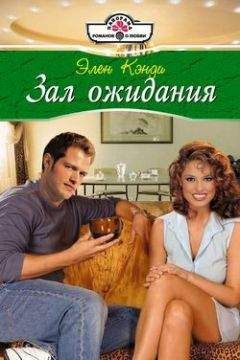Утро восьмого дня
— Отличная каша, — Ян Эмс улыбнулся, ощетинив усы.
Улыбка украшала лицо Висвалда, делая его словно принадлежащим другому человеку — кому-то немолчаливому, веселому и легкому, такому, каким он не был. И жаль, что Эмс улыбался редко.
Высокий, молчаливый, он имел мужественное лицо балта.
Наверное, в нем была память о лицах отца, и деда, и всех, кто был с ними рядом. Не улыбаясь, они уходили в море, чтобы вернуться оттуда или остаться там навсегда. За дедом еще стоял прадед, а за ним его отец — целая вереница уходящих вдаль рыбаков, уплывающих в море и возвращающихся из него, — теперь уже только по зову памяти Эмса. Все они признали бы своим Висвалда Эмса, увидев, как он сидел сейчас на черном холодном камне, расставив длинные ноги — колени его торчали чуть ли не до плеч, — и смотрел он тоже в море, только не в Балтийское — в Восточно-Сибирское.
— А теперь грузиться.
И быстро, — отрывисто сказал он. — Сегодня идем с работой.
Ян Званерс так и не ответил на улыбку Эмса. Нагнувшись, он собирал миски.
Ян знал, что обманул их в Риге, когда подряжался в рабочие. Тогда он сказал, что умеет «прилично варить». В Риге не проверишь... И вот теперь только у западной партии есть настоящий повар, был им еще в армии. Но западная партия варит себе еду где-то за островом Айон. Это далеко. Меж двумя их кострами много воды и льдов, еще больше камней, километров и ветра.
Но это не стоит огорчений. Иметь на шестерых специального повара слишком роскошно. В Риге им нужны были все-таки именно рабочие, по возможности сильные, лучше очень. Так что Ян не так уж обманул их. Он едва ли не самый сильный из шестерки. Правда, среди стольких взрослых мужчин — особенно если каждый занят своим делом и ничего плохого еще не случилось — трудно определить самого сильного. Но пусть ничего плохого и не случится!
Каждому хотелось верить в это. И право, не так уж мало, если каждый из шести желает верить в удачу.
Все потянулись к доре (1 Дора — большая рыбацкая лодка (северное название).). Разогревая мотор, там уже копошился их второй Ян — механик Тимерманис. Мотор еще ни разу не взревел ровно, он хрипел и кашлял, как простуженный человек утром где-нибудь рядом с домом, на улице. Значит, еще было время. Эмс вытянул из-за пазухи тетрадь и раскрыл ее.
«13.VIII. 8.00. Завтракаем...»
Он не забывал записывать то, что они «завтракали» или «ужинали». Завтраки и ужины были для них отсчетом времени, и они же начинали или замыкали собою целый наполненный работой день жизни. Дальше шел ветер.
«Ветер Е, 3—4 балла».
Потом лед:
«Лед у полярной станции 2 балла...»
Эмс писал теперь не отрываясь:
«Прогноз: первая половина декады — восточные ветры, вторая половина — западные. Лед, по сведениям авиаразведки, набит до 10 баллов — и так от самого старого морпорта до о. Шалаурова.
При восточных ветрах можем остаться между набитыми уже сейчас льдами и льдами, дрейфующими от W. Надо спешить! Куда? Где спрятаться, если впереди будет лед?..
Все-таки надо идти вперед. На месте оставаться нет смысла — и здесь негде спрятаться; обратно идти тоже нельзя — льды труднопроходимые. И потом, после восточных ветров — восточные ветры принесут еще лед от Айонского массива — нам уже не вырваться. Мы не пройдем мыс Шелагский — и это значит не выполнить ничего».
Эмс медленно озябшими руками закрыл тетрадь. Костер догорал. Теперь по рваной копоти на камнях стало видно, какой он был. В середине темного пятна дотлевали скрещенные головешки, черный след костра был не круглый, как в безветрие, он тянулся к берегу. Туда еще недавно ветер относил пламя.
Дора стояла у самого берега. Льдины, редкие и некрупные, мягко шли чуть дальше, ничем не угрожая ей. Ночь напролет льды проплывали, слегка покручиваясь и вздрагивая. Прибрежное течение тянуло их здесь без натуги — легко и проворно. Вечный для северных морей уныло ровный шорох льдов уже не улавливался людьми: он проходил мимо их сознания, не трогая его и не будоража; он не существовал, как для привыкшего к вечному шуму леса не существует стон бора. Но здешнее побережье не смогло выкормить и поднять над собой ни одного дерева. Тишину ровного ледяного шороха разрывали лишь короткие пронзительные скрипы, только это было сигналом какого-то неблагополучия в ровном кружении льдов. После такого скрежета люди еще долго слышали шуршанье льдин, как бы ни привыкли к нему. Эмс знал, что этот скрежет пугал и тех, кто приходил в Ледовитый океан первым, он будет настораживать и тех, кто придет в него через много лет.
Сегодня ночью таких вскриков было мало. Казалось, льды и без того вполне сознавали свою силу: очень уж просто она могла стать и угрожающей, и даже жестокой.
На доре еще раскладывали поудобней вещи, как всегда потревоженные ночевкой, и Эмс, привычно расположившись на корме у руля, думал о льдах.
Самое страшное заключалось в полной бессмысленности неиссякаемой ледяной силы и такой же полной ее слепоте. С одинаковым тщанием, ловкостью и бездушием льды, собравшись вместе по воле ветров и течений, могли раздавить и друг друга, и огромное морское судно, и обмякшую уже тушу уплывшей от охотника-чукчи подстреленной нерпы. Что могла противопоставить этой силе дора? Тысячу пятьсот оборотов своего мотора? Хрупкие борта? Изворотливость человеческого ума, напряженного до предела ежедневной опасностью?.. И хватит ли этого? Или все-таки будет мало? Войдя в одну из трещин, дора могла однажды хрустнуть слабо и жалобно. Тогда все шестеро (если им еще удастся выброситься на лед!) будут уходить к берегу по тем же сделавшим свое дело льдам. Пусть это будут плотные льды! Они дойдут по ним к берегу. Но у берега откроется полынья... Сколько может продержаться человек в воде Восточно-Сибирского? Пять? Семь? Или только три минуты? Даже достигнутый берег еще не конец бедствий. Где они выйдут на берег и сколько десятков километров им придется идти до ближайшей избушки охотника?
Вот почему даже во сне Эмса преследовал жалостный хруст сдавленных бортов доры. И чем ясней каждый из них желал и умел увидеть себя в самых смертельных условиях, не пугаясь их и не отчаиваясь, тем больше он становился готовым ко всему, и к худшему тоже.
Но нельзя было говорить об этом вслух. Эмс знал: если в какой-то из вечеров кто-то из них выложит перед другими свой страх, то с этим еще можно бороться. Но если его разделят с угрюмостью и молчанием, то это будет конец, дальше им не пройти ни мили... Придет то, о чем он писал, хотя вроде бы это относилось только ко льдам у Шелагского: «Это значит не выполнить ничего»!
Эмс с удовольствием смотрел, как Валера Ковалев ловко сматывал конец, державший дору, слушал, как легко мотор меняет обороты, и с радостью убеждался, что еще никто не устал после семи дней плавания и все оживлены самым радостным из оживлений — оживлением от предстоящей работы.
До сих пор никто еще ни разу не усмехнулся, когда Эмс вытягивал свою тетрадь и, раскрыв ее на колене, что-то быстро писал: «Тоже, мол, Нансен!» Все знали, зачем существует этот дневник, и делали вид, что не интересуются им... От них может остаться только эта тетрадь. И лишь она сможет тогда рассказать о сделанном ими и о том, что они не успели или, может быть, не смогли.
Дора полным ходом шла ко льдам.
— Держи ровно восемьсот! — крикнул Эмс Тимерманису.
Тот понимающе кивнул. Дора снизила скорость. Мотор делал ровно восемьсот оборотов.
— На лебедке... приготовьтесь, Ян.
Висвалд хотел еще сказать что-то Валерию и Лене, но те уже склонились над ковшом, готовясь опустить его в воду. Эмс видел, как они без сноровки держали его, — очень уж ласково, почти трогательно. Это была осторожность неумения. Эмс различал ее за версту.
«Галс 31 — первый галс. Проба 450 — первая проба — песок. Пробы 451 и 452 — алеврит. Проба 453 — грубый песок и галька. Появление на глубине более грубого материала, по-видимому, связано с процессами размыва дна и массовым перемещением наносов под действием волн...»
Эмс писал размашисто, не жалея листа. Стоило ли жалеть бумагу, если к этой записи они шли целую неделю?! Больше на этой странице дневника ничего нет. Начинался их восьмой день жизни в лодке.
«Принимаю решение...»
Они вышли 6 августа из Певека. Перед этим две недели ушло на то, чтобы взятую в рыболовецком совхозе дору привести в мореходный вид: заделать щели, поставить мотор, сделать хоть подобие рубки. Как ни мала вышла рубка, в ней могли поместиться два человека — это свободно, значит, при нужде может залезть и больше. А это кое-что значило. Дощатая надстройка сразу превратила дору в дом, пусть плывущий, но дом, с ней на лодку пришел уют и было где даже в непогоду вскипятить чай.
Еще надо было поставить мачту, и они поставили ее. Потом протянули по бортам леера. Теперь даже в шторм можно было передвигаться в доре, не опасаясь быть выброшенным за борт. Строгий и очень морской вид суденышка с отчаянно храброй для Ледовитого океана оснасткой портило, пожалуй, только одно — кронштейн для лебедки. Но это сооружение было главным для них — без лебедки не выбрать ковш с грунтом, — и для них оно не только не ухудшало вид доры, но еще и радовало своей железной прочностью и целесообразностью.