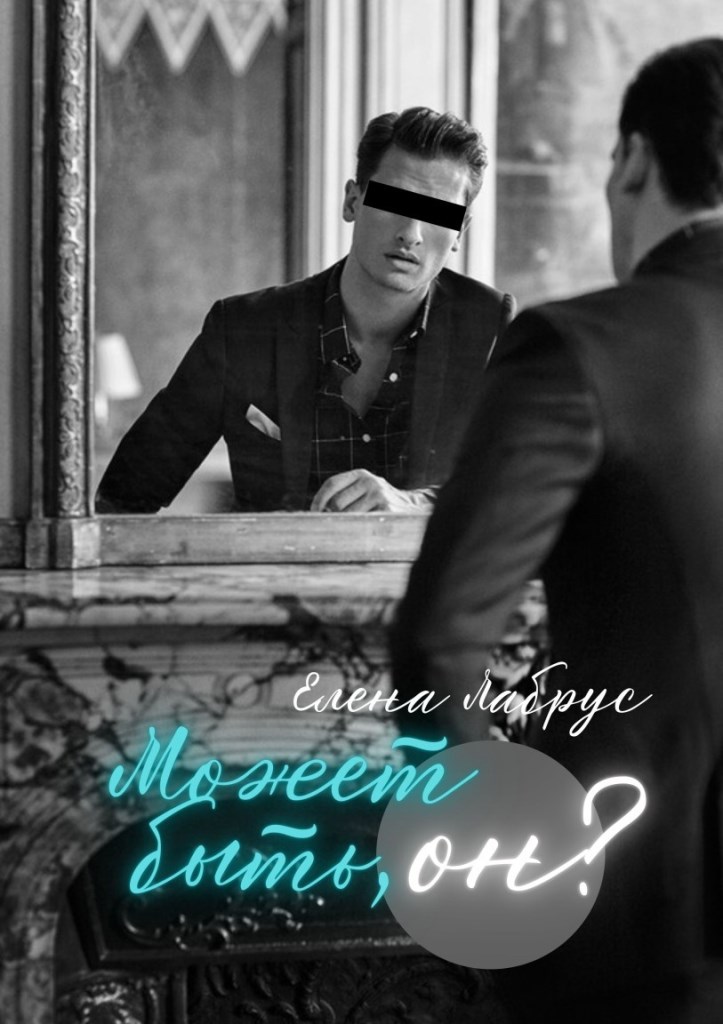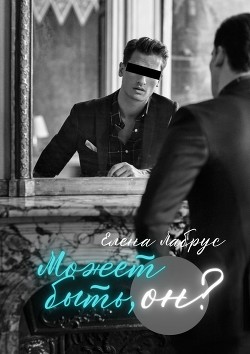за меня Оксанка.
— Да? Прости, не знал, — кашлянул Лёха, как звала брата Оксанка.
— И Захар один из них? — едва выговорила я.
— По крайней мере, говорили, у него такая же татуировка. Вот здесь на запястье, — показал он на себе. — Они обязательно набивают себе «карающий меч», типа рыцарский, с изогнутой гардой, — нарисовал он пальцем на столе, — окровавленный.
Мне стало ещё хуже. Я вспомнила мужскую руку, что упала с носилок, на которых мама зажимала рану мужика, чтобы он не истёк кровью. И вспомнила эту татуировку.
Вот что она мне всё это время напоминала — татуировка на руке у Захара.
Вот что я пыталась вспомнить и никак не могла.
Вот что было набито у него на запястье до того, как сверху он набил другой рисунок — окровавленный меч.
— Значит он… — сказала я вслух, не видя ни Оксанку, ни её брата, ни стены СИЗО.
Всё, что Алексей говорил дальше, я слышала словно сквозь вату.
Террориста, по вине которого погибла врач, оправдали. Двое из банды погибли во время взрыва, но в СИЗО сидели двое других, которых взяли чуть позже, из той же группировки. Это они показали, что тот парень был ни при чём — заложник, которого заставили делать СВУ, потому что своего спеца они потеряли, а время поджимало.
— СВУ это что? — спросила я, когда он замолчал.
— Самодельное взрывное устройство.
Я кивнула.
— А Оболенский?
— Оболенского предупредили, что на кухне будет работать «их человек» и, если он не хочет, чтобы его грёбаная тюрьма взлетела на воздух вместе с корпусом начальства, мальчонку не трогать — будет им малявы таскать с воли на волю.
— А потом?
— Потом их отправили по этапу, а мальчонка уволился, — пожал плечами Лёха.
— То есть он ещё немного поработал, — хмыкнула Оксанка, — а потом уволился и поехал… ну ты сама знаешь куда, — развела она руками. — К тебе.
«Ты не виновата. Не ты виновата , — звучало у меня в ушах, когда я ехала домой. — Твоя мама спасла жизнь человеку. Не потащи ты её на тот сеанс — и для него всё закончилось бы иначе. Он остался жить благодаря ей».
— Ты прямо приманка для уродов, Ланц, — сказала Оксанка по дороге.
— И не говори, — смерила я её взглядом.
Она не поняла намёк, что и сама из того же цирка. Как не поняла и того, что Захар не просто кто-то из банды, которая пригрозила Оболенскому — он и есть тот парень, которого спасла мама.
Он и есть тот, кто её убил.
— Убирайся, — распахнула я дверь да так и оставила открытой. — Уходи, Захар.
— Сверчок, что… — встал он.
— Не смей называть меня сверчок! — заорала я. — Не смей! Ты, наверное, услышал, когда тебя везли на каталке, как меня назвала мама. Но ты перепутал. Мама звала меня Мотылёк. Мотылёк, слышишь? А ты собирай свои вещи и уходи.
— Настя, я…
— Я не хочу ничего слышать, Захар. Я знаю, кто ты. Знаю, что на запястье у тебя «карающий меч». Так, видимо, и называется ваша группировка. И я, конечно, дура, но не настолько, чтобы не понять: тебя выгородили, назвали заложником, который якобы собирал взрывные устройства под дулом пистолета, чтобы ты остался на свободе, но с условием, что после больницы ты устроишься на работу в СИЗО и будешь помогать им держать связь с волей.
Он больше не пытался со мной спорить. Молча кидал в сумку вещи, не поднимая глаз.
— Она спасла тебя. А ты её убил. Это чувство вины заставило тебя помогать мне. И то обещание, что ты дал себе: обо мне позаботиться. Ты никогда меня не любил. Наверное, я тебе даже не нравилась. Так ты решил искупить свою вину, да? Ну значит, она искуплена. Считай, что моя мама тебя простила. Я не скажу тебе ничего нового: она бы тебя и не винила. Это был её выбор. Её долг. И её судьба. — Я покачала головой. — Её, но не моя. Спасибо за всё, — придержала я входную дверь. — И иди к чёрту!
Дверь, отправленная моей рукой, хлопнула за его спиной.
Я посмотрела на забытую им на стуле рубашку.
Всё так просто, так логично и так объяснимо, когда видишь картинку целиком.
Так беспощадно убедительно. Неумолимо. И безжалостно.
И то, что я принимала за свою любовь — тоже не любовь. Благодарность побитого щенка человеку, что его пожалел. Он ведь так себя и вёл — кормил, гулял, ласкал. А наивному осиротевшему щенку и невдомёк, что этот человек и оставил его сиротой. Пусть и нечаянно.
Вряд ли у него раненого и теряющего сознание от боли и кровопотери быть план — пронести в операционную СВУ. Это была чистая случайность, поэтому он и чувствовал себя таким виноватым. Поэтому и старался как-то загладить свою вину. Потому и плакал. Потому что он не хотел.
О том, что он взрывал других невинных людей, был убийцей, террористом, я думать не могла.
Мама спасла ему жизнь — значит пусть живёт.
— Господи, ты трахалась с террористом! — восторженно рассматривала Оксанка фотографии, сидя на маминой кровати. — И в тюряге сидела, — время от времени поднимала она на меня глаза. — Да ты крута, подруга!
— Угу, — рассеянно отвечала я, вытрясая мамин комод в поисках ключа от сейфа.
Всю остальную квартиру за прошедшие дни, как ушёл Захар, я уже перерыла. Перетрясла дедовы книги. Заглянула в его хьюмидор, на который питала особые надежды. Но увы, ничего кроме десятка сигар там не нашла.
Наверно, это был мой способ не думать. Не думать про Захара, не думать про Урода, не думать о том, чтобы не думать. Не пытаться анализировать свои чувства, ни о чем не сожалеть, не раскаиваться, не терзаться сомнениями. Не копаться в себе, чтобы ни дай бог не докопаться до