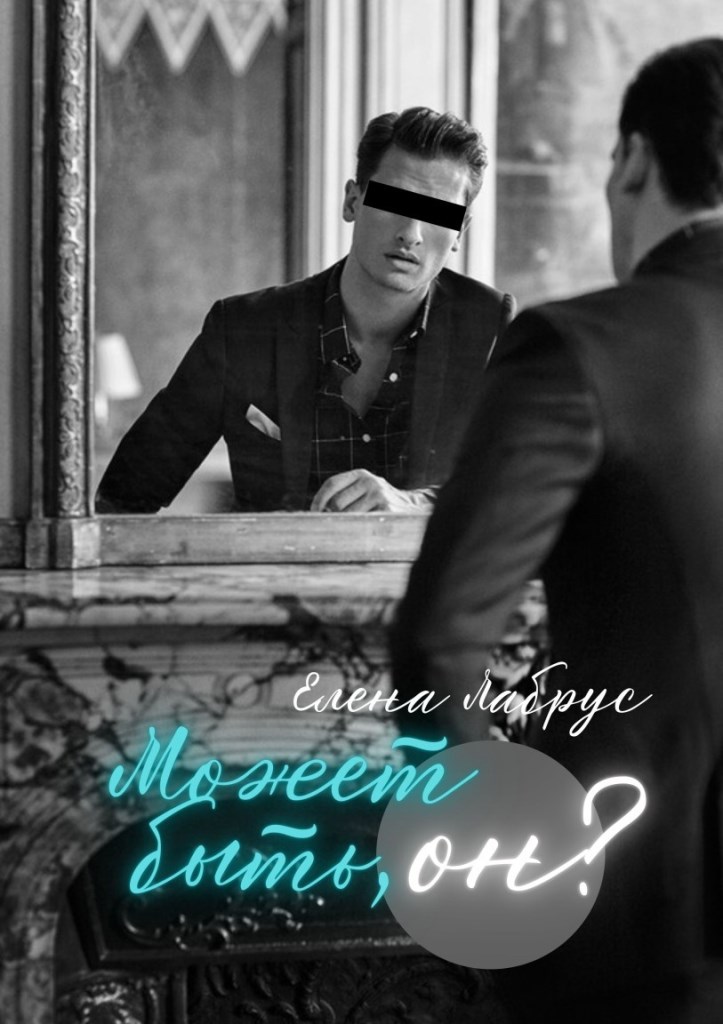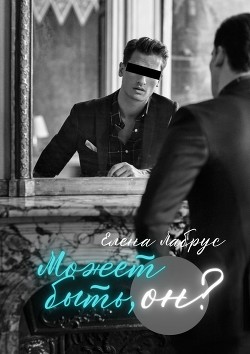чего-то, чего я знать о себе не хотела.
Я мечтала окаменеть изнутри и глушила себя как радио, обложившись томами Большой Медицинской Энциклопедии и учебниками, что достала из шкафа. Занимала мысли прочитанными главами и поисками ключа.
Это давалось непросто, поэтому, наверное, я не сразу сообразила, что дед умер намного раньше мамы, а значит, последний, кто пользовался сейфом — она. Вот у неё и надо искать ключ.
— А это вы где? — развернула Оксанка альбом.
— В Париже. В Лувре.
— Так тянет в Лувр. Но сад. Хозяйство. Долбанные куры, — заржала она.
— Подожди, — остановилась я. — Разверни-ка ещё раз.
Она повернула альбом.
В Париже мама купила бутылку абсента, мне антикварную книгу стихов на французском языке, а себе, подавшись внезапному порыву, — часы, очень дорогие и стильные, которое так ей понравились, что она ругала себя за расточительность, но потом почти не снимала. И она…
Я помнила, как в свой последний день она сняла часы и кольцо, положила их в карман куртки, куртку скинула кому-то на руки. Мне потом её вернули. После похорон.
Почти бегом я рванула в прихожую. Так и есть — в шкафу висела её куртка, в кармане — кольцо и часы. Это было не совсем то, что я искала, но зато я поняла, где может быть ключ.
Хорошо, что я не вынесла все мамины вещи на помойку, как советовали добрые люди. Хорошо, что не хотела от них избавляться, и мне были не в тягость воспоминания, скорее наоборот. Я нашла ключ там, где и ожидала — в кармане старого платья, что мама сто лет не надевала.
Я грела его в кармане — большой металлический ключ, на кольце которого была гравировка с названием компании и большими буквами «LONDON» — и ждала, когда Оксанка наконец уйдёт.
Но она всё не уходила и не затыкалась — словно тупым хлебным ножом с зазубринами пилила мне душу и курила в открытое окно на кухне.
— Говорят, у Оболенского неприятности. В тюряге беспорядки. На кухне пожар устроили, в женском корпусе подняли бунт, в мужском организовали побег. Неудачный побег, но это всё равно плохо. Он теперь там днюет и ночует. И ходит злой как собака, — выпустив дым изо рта тонкой струйкой, сказала она и стала рассматривать мамино кольцо.
— А ты откуда знаешь? — вяло спросила я.
Это объясняло почему вторую неделю Урод не приходил. Я невольно ловила себя на мысли, что скучаю. Жду, чтоб его. Злюсь, что именно сейчас, когда он мне так нужен, его нет. Хотя можно ли думать про Урода «нужен»? Можно ли о нём вообще думать? И если можно, то как?
— Лёха сказал, — ответила Оксанка.
— О том, что он ходит злой как собака? — невольно посмотрела я на отрывной календарь.
Дед каждое утро начинал с того, что торжественно срывал листок и читал какой сегодня день по народному календарю. Мама покупала календарь по привычке. Но на стене в кухне, где мы с Оксанкой типа пили чай: она курила, я — болтала ложечкой остывшую жидкость, висел новый, открытый на том дне, когда Захар ушёл и перестал отрывать листы.
Я подошла и вырвала все прошедшие дни стопкой. Выдрала до самого крепления.
Скучала ли я по Захару сильнее, чем по Уроду?
Да. Я швырнула непрочитанные листки в мусор, словно это были непрожитые дни. Непрожитые. Неосмысленные. Не оставившие в памяти ничего: ни его улыбки, ни его рук, ни ответов на вопросы. Не знаю почему я ждала, что он вернётся, чтобы объясниться хотя бы.
Зачем я его ждала?
«Лаврентьев день, — сообщил типографский текст с сегодняшней датой. После краткой истории святого, что раздал имущество церкви беднякам вместо того, чтобы по приказу передать государству, сказал префекту: «Вот истинные сокровища церкви» , показав на толпу нищих и калек, подвергся жестоким пыткам, от которых и умер, шло: — В полдень на Лаврентия ходили смотреть на воду в реках и озёрах: если она тиха и спокойна — осень будет безветренной, а зима — без вьюг и метелей. Именины в этот день: Вячеслав…
Даже чёртов календарь не давал забыть.
— Да, злющий, остервеневший, опасный как сам дьявол, — хмыкнула Оксанка, туша окурок, имея в виду Оболенского. Она закрыла окно и от подоконника пересела ко мне за стол. — А это что за камень? — положила передо мной мамино кольцо.
— Бирюза, — пожала я плечами. Вглядываясь в замысловатую вязь тёмных прожилок, я пыталась вспомнить откуда у мамы это кольцо. Когда она его купила? Кто ей его подарил?
Внутри на ободке были выгравированы буквы. «О М Б В. Твой Д»
«Твой Д, — шумно выдохнула я. — Чёрт побери! Я ничего не знала об этой женщине, которую звала мама». И кто он? И где он, этот загадочный Д?
— Кстати, Дмитрий Сергеевич, — сказала Оксанка. — Ну, отец Андрея, — смутилась она, когда я посмотрела на неё странно. — Предложил в следующие выходные отметить у них на даче конец лета и заодно начало нашей студенческой жизни. Ну и тебя попросил пригласить.
— Гринёв старший — меня? К себе на дачу? — удивилась я.
« Мой отец. Хирург. Учился вместе с твоей мамой , — всплыли в памяти слова Гринёва. — Был в неё влюблён. Но она выбрала твоего отца, и в итоге они остались друзьями ».
Друзьями? Я вспомнила, что его родители не позвали меня к себе, когда погибла мама, и ничем не помогли, и… странный заискивающий тон матери Гринёва, предлагающей чай, когда её сын лежит в комнате со сломанной рукой, избитый по моей вине.
Конечно, что его избили из-за меня, Андрей мог ей и не сказать. Но я вдруг вспомнила те два неловких раза, когда я видела Дмитрия Сергеевича Гринёва после маминой смерти: на выпускном и до этого, в школьном коридоре. Оба раза он как-то странно отводил глаза, словно видеть меня ему больно, или неприятно, или стыдно.
Или по наивности, в силу небольшого возраста и отсутствия жизненного опыта, я ничего не понимала и думала не